проповедь бича довела! И как прикажете стоп давать?
порт - чтоб не было встречных!" А встречные тоже были предупреждены - чтоб
двигались мористей. За Нордкапом этот Летучий Голландец все время торчал на
палубе, - кому-то он вроде бы признался, что хочет в шестой раз пойти, чтоб
было три года для ровного счету, - но встречных не было. Все они шли за
горизонтом, и дымка не видать. Тогда он сошел в кубрик, достал свою цифирь и
подвел черту. Не вышло у него в шестой рейс пойти без перерыва, а с
перерывом - ему невыгодно, опять начни со ста процентов. Вот он и подвел
черту.
сойдет образина, бородища до самых глаз, а глаза не людские. А он сошел -
ясный, спокойный, и улыбался - глядя на землю, на камешки, на щепки там или
мазутные пятна, от которых дуреешь, когда возвращаешься. И сразу стопы свои
направил в кассу. Однако и двух шагов не прошел - свалился, застонал от
боли. Вы, наверное, знаете - какие-то мускулы в ногах слабеют, когда долго
не ходишь по твердой земле, без качки, - так вот, он первые метров двести
едва на карачках не полз, отдыхал у каждого столба. И вся толпища шла за ним
и молчала. А когда он дополз, в кассе и денег таких не оказалось, какие он
заработал. Представляете - что такое касса сельдяного флота! Так вот, там не
оказалось. Пришлось к нему приставить двоих милицейских, они ему наняли
такси и отвезли в банк. Милицейские потом рассказывали, что все пачки у него
едва поместились в чемодане, и он оттуда выкидывал в урну сорочки, носки,
свитера, белье. Моряки, из его экипажа, ожидали при входе - посидеть с ним в
"Арктике", отметить прибытие. Он к ним не вышел, сидел в банке до закрытия,
с чемоданом под боком. Не знаю - чего он боялся, никто б его и без милиции
не тронул. Ведь он же стал легендой, кто ж осмелится испортить легенду! А
может, он просто устал до смерти - и покуда плавал, и когда шел от причала.
Та же милиция купила ему билет на "Полярную стрелу", посадила в вагон.
Больше из наших его никто не видел. И не встречался он в других местах.
Вдруг как-то обнаружилось, что он ни одному человеку не сказал - откуда он,
где живет.
говорит - он четыре года плавал, кто - пять. Но я вам говорю - два с
половиной, а я это знаю от тех, кто был с ним в последнем рейсе. Портовые-то
сколько хотите прибавят, а для моряков и год - это слишком много. Вам
расскажут - он был горилла, якорь мог выбрать заместо брашпиля, и зубы у
него все были стальные, на спор комбинированные тросы - пенька-железо -
перегрызал. Но это уже такая туфта, что и спорить не о чем. А если вы
возьмете старую подшивку - там писали о нем, когда он остался на второй
рейс, - увидите его фото: самый средний он, слегка кососкулый, с белесым
чубчиком, с прозрачными глазами.
ради чего? Если из-за женщины, кто бы его ждал так долго? А если и ждала
какая-нибудь, то писала бы ему, - а ему никто не писал, ни одна душа. Может,
он себе дом хотел отгрохать, со всем хозяйством - и это можно выколотить, и
не такой ценой. Если быть таким, как он. А он, конечно, был из другого
теста. Его бы на все хватило. Я вот часто думал о нем, и никак его не
постигну. Но одно я знаю - мне таким не быть, это точно. Вот и вся сказочка.
5
и берега те же, миль за тридцать от нас, как горная гряда под снегом, и
маячат норвежские крейсера - на границе запретной зоны*. Но простора нет
уже, столько скопилось тут всякого промыслового народа - англичане,
норвежцы, французы, фарерцы - все шастают по морю, как шары по бильярду,
чертят зигзаги друг у дружки под носом. А смотреть приятно на них, на
иностранцев: суденышки хотя и мельче наших, но ходят прибранные, борта у них
лаком блестят - синие, оранжевые, зеленые, красные, рубка - белоснежная,
шлюпки с моторчиками так аккуратно подвешены. И тут влезает наш какой-нибудь
- черный, ржавый, все от него чуть не врассыпную. Но и то правда, никто из
них больше чем на три недели не ходит, дом под боком, грех не присмотреть за
судном, а наши - за сто пять суток - так обносятся, что в порт идти стыдно,
выгонят как шелудивых.
знают. Бросают кошельковый невод, обносят его на моторном ботике и тянут
себе кошелек - обязательно полный. Полчаса работы - тонна на борту. Потом
телевизор идут смотреть. Мне рассказывал один, - он за борт упал и наши не
заметили, а норвежцы спасли, - в салонах у них телевизоров штуки по три, не
знаешь, на какой смотреть. В одном ковбои скачут, в другом - мультипликация,
живот надорвешь, а в третьем - девки в таком виде танцуют - не жизнь, а
разложение. А роканы у них какие! Черные, лоснящиеся, опушены белым мехом на
рукавах и вокруг лица, в таком рокане спокойно можно по улице ходить -
примут за пижона.
поглядывали в бинокли, потом и сами начали поиск. Но весь день не везло нам,
эхолот одну мелочь писал, реденькие концентрации, до ужина мы так и не
выметали. Теперь лежи и жди - хоть до полночи, а то и до двух, - а спать
нельзя, да и сам не заснешь.
они все перешептывались. Наше настроение им передалось. А какое у нас
настроение, перед первой выметкой, - этого я вам, наверное, не объясню.
Пароход носится зигзагами, переваливает с галса на галс, и вот-вот поднимут
нас, как по тревоге. Видели вы спортсменов перед кроссом? Хочется им бежать?
А ведь никто не гонит их. Вот так же и мы. Но только все, что было до этого,
- переход там, порядок набирали, притирались друг к другу, - все это были
шуточки, а вот теперь-то главное начинается.
от вибрации. И сразу - утихло. Даже отсюда слышно стало, как ветер свистит в
вантах. Потом винт залопотал, взбурлил, и кубрик опять затрясся - дали
реверс.
волне.
стали подбирать с полу непромокаемые наши роканы и буксы*, а под них надели
непросыхаемые наши телогрейки и ватные штаны, сунули ноги в сапоги с
раструбами, головы покрыли зюйдвестками.
штурман заступил. Кто-то сказал Шурке:
рулевому: "Посмотрим на твою рыбу", хотя он, конечно, не ищет, делает, что
ему велят. И Шурка ответил, как будто извинялся:
может, он планктон* пишет.
прожектора зажглись, вся палуба в свету, а за бортом чернота египетская,
брызги оттуда хлещут. Мы разошлись по местам, позевывая, поеживаясь,
упрятали шеи в воротники. А мое место - у самого капа, надо отдраить круглую
люковину у вожакового трюма, в пазы уложить ролик, через него перебросить
конец вожака и подать дрифтеру - он его сростит с бухтой, что лежит возле
его ног, под левым фальшбортом. А другой конец - сам уже соединяешь с
лебедкой. И стой, поглядывай в трюм, как идет вожак, и покрикивай: "Марка!
Срост! Марка!" - это чтобы дрифтеру заранее знать, где ему затягивать узел
на вожаке, а где руки поберечь от сроста.
желтого сизаля, японской выделки. Толщиной в руку удав. Валютой за него,
черта, плачено. Он еще на вид шелковый, не побывал в море и пахнет от него
"лыжной мазью". А завтра придет ко мне серый и пахнуть будет солью,
водорослями и рыбой. И сети тоже запахнут морем, зелень на них потемнеет, и
порвутся не в одном месте, латать мы их будем и перелатывать.
прозевали, но как раз для поднятия духа. Дрифтер воткнул нож в палубу и
натянул белые перчатки. Да, сказать кому - не поверят, что мы на выметку
выходим под звуки джаза и в белых перчаточках. Но уж такая работа бывает
тонкая, в брезентовых варежках ее не сделаешь. А перчатки эти - просто
некрашенные, и рвутся мгновенно, пар сорок он в клочья сносит за рейс.
холодно ему было стоять на крыле - не от ветра, а от того, что все смотрели
с палубы. Штурман тоже на него смотрел, грудью привалясь к штурвалу.



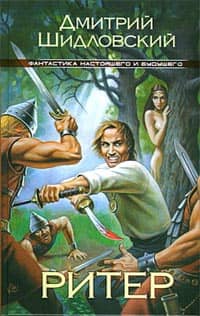
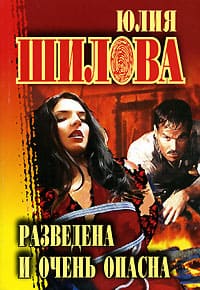

 Браун Дэн
Браун Дэн Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Лондон Джек
Лондон Джек Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна