и над головами их и поднятой руке тракториста качался занесенный гаечный
ключ. Только Леонтьев видел, как со спины к Латышеву скачками на подогнутых
ногах приближался другой немец.
Дико закричав, подхваченный незнакомым ему до сих пор чувством,
Леонтьев выскочил наперерез немцу и ткнул в лицо ему железным дулом
автомата. Тот опешил, попятился испуганно, а Леонтьев все совал в его уже
окровавленное лицо дуло автомата, забыв, что из него надо стрелять.
Неожиданно лицо немца взорвалось огнями, закачалось, поплыло, и мягкая
душная тяжесть навалилась на Леонтьева. Он долго боролся под ней, потом
почувствовал, что выныривает с большой, давившей его глубины. И когда
вынырнул, вместе со звоном в ушах услышал рокотание и лязганье и ощутил, что
и сам он, и все вокруг равномерно сотрясается.
- Ожил? - спросил Латышев.
Леонтьев понял, что сидит на тракторе рядом с Латышевым, привалившись к
его теплому плечу. Он пошевелился - затылок обожгло болью. Леонтьев
осторожно пощупал под шапкой сзади. Там было мокро, липко и все болело.
- Лежи, лежи,- говорил ему Латышев. Впереди трактора шли с автоматами
на спинах Назаров и Орлов.
- Вытащили трактор? - спросил Леонтьев.
- Сам себя вытащил лебедкой. Зацепили тросом за фонарный столб, он себя
и вытянул,- довольно басил Латышев.
Кого-то не хватало, но Леонтьев никак не мог вспомнить кого: он все же
плохо соображал.
- А Московка где?
Ему не ответили. Крупное лицо Латышева с твердыми складками у губ было
каменным. Леонтьев отодвинулся в угол кабины и тихо сидел там. И постепенно
обрывками все вспомнилось ему, и он испытал то необыкновенное чувство,
заставившее его кинуться наперерез немцу. Когда Латышев глянул в его
сторону, он увидел, что Леонтьев плачет. Он долго думал, о чем бы это, потом
сказал:
- Это ты с непривычки. Рана твоя не очень чтобы так уж... Заживет она.
- Да не от боли...- сказал Леонтьев, стыдясь, что его так поняли.
- Не от боли, значит...- повторил Латышев, и по голосу чувствовалось,
что не поверил.
А впрочем, это было даже безразлично сейчас. Главное было это чудесное,
возникшее в бою чувство, которое Леонтьев испытал впервые.
ГЛАВА XII
УТРО
Город оставался позади. Уже на выезде, под мостом, каменный завал
преградил путь, и батарея остановилась. Раненые, сидевшие на пушках,
проснулись от внезапной остановки, оглядывались вокруг. В их сонном сознании
все спуталось, и только эта ночь длилась бесконечно. В соседних улицах
вспыхивала и затихала стрельба. Никто не оборачивался: к ней привыкли.
Каменный завал в рост человека - булыжник, битый кирпич, обломки стен -
все это стояло на пути угрожающе и молча. Послали разведку. Она вскоре
вернулась. На той стороне никого не было. Но как только стали разбирать
камни, из домов, из-за железнодорожного полотна ударили немецкие автоматы,
огненные трассы пуль засверкали под мостом, высекая искры из булыжника.
Немцев было немного - слабое охранение. Но Беличенко не мог вступать с
ними в бой. Пока разберут завал, подтянут другую пушку, успеют подойти еще
немцы, привлеченные стрельбой. И он увел батарею, решив выходить другой
дорогой. Но теперь немцы шли следом, стреляли непрерывно разведчики,
отступавшие последними, сдерживали их.
Холодное безмолвие каменного города окружало людей. Над улицами витал
запах гари. Серый, утренний туман полз по булыжным мостовым, по битому
стеклу, всасывался черными глазницами разбитых окоп, наплывал на краснеющие
пятна догоравших пожаров, мешаясь с дымом. Редкие языки пламени,
вырывавшиеся из-под пепла, освещали тяжелые пушки, укрытые брезентом,- по
ровной дороге трактор на первой скорости тащил теперь их обе сразу,- людей с
серыми, исхудалыми лицами, идущих рядом, наступающих на собственные тeни,
обмотки, ботинки, сапоги,- мимо, мимо шли они.
Люди, спотыкаясь, тяжело переставляли ноги, у иных глаза были закрыты.
По временам то один, то другой вздрагивал, просыпаясь, поправлял оружие,
движением страшной усталости потирал небритое лицо.
Усилием воли Беличенко заставляет себя не заснуть. От раны его знобит,
а голова тяжелая и горячая, в глазах после многих бессонных ночей точно
песок насыпай. Рядом поскрипывает на морозе, медленно вращается железное
колесо пушки. И вдруг рокот трактора исчез. Беличенко явственно слышит
стремительный снижающийся вой мины. Он вздрогнул, открыл глаза. Все так же
качаются впереди спины солдат, скрипит колесо пушки. 3аснул! Тогда он
остановился у обочины, пропуская батарею.
Тоня шла за последним орудием, держась рукой за брезент.
- Может, сядешь на пушку? - спросил Беличенко.
Она покачала головой: не было сил говорить. Такая усталая, маленькая...
И вот крайние дома, огороды, сады. Дорога кончилась. Впереди некрутой
подъем.
Так показалось издали. По когда трактор попробовал взять его, гусеницы
заскрежетали по обледенелой земле, и, увлекаемый тяжестью пушки, он медленно
сполз вниз. Сзади наседали немцы, разведчики вели с ними бой, отходя шаг за
шагом. И тогда усталыми, обессиленными людьми овладела ярость. Срывая с себя
шинели, они клали под гусеницы трактора, рубили деревья, валили заборы,
помогали криком, плечом. Падали, снова поднимались, и трактор, дрожа от
напряжения, взбирался по обледенелому склону. Так втащили его наверх, он
уперся гуceницей в дерево и, размотав лебедку, начал подтягивать орудие. По
сторонам его шаг за шагом шли бойцы.
Вот в это время из города, из боковой улицы, прорвался трактор
Назарова, который все уже считали погибшим. Увидев его издали, люди с
криками побежали навстречу.
По тем же самым шинелям, разрывая их гусеницами, втаптывая в землю,
выбрасывая пережеванные, скомканные, он поднимался по склону.
- Давай, давай! - кричал Беличенко сверху и призывно махал здоровой
рукой. Он стоял на гребне рядом с невысокой кривой яблонькой.
Назаров, радостный, подбежал к нему.
- Молодец,- коротко похвалил Беличенко,- разворачивайся быстро, цепляй
второе орудие!
Назаров еще полон был всем тем, что они сделали, ему очень хотелось
рассказать, как они спасли трактор, что в первый момент почувствовал себя
обиженным. Но после понял: Беличенко относился к нему сейчас, как к самому
себе. И пусть всегда так будет!
Уже сильно посвистывали пули. Но гуще они свистели в саду, где солдаты
ломали заборы и рубили хворост под колеса пушкам. Здесь двоих ранило, а один
был убит. Никто не видел, как убило его. Нес вместе со всеми хворост, а
когда оглянулись - он лежал на вязанке, уткнувшись лицом в снег, и - кровь
за ухом. Бородин перевернул его на спину, солдат вяло разбросал руки.
-- Берите хворост, ребята,- сказал Бородин н, оглянувшись, увидел, что
широкогрудый заряжающий Никонов рубит яблоню.
- Стой! - закричал он.- Это же яблоня!
Но тут же, смутившись, махнул рукой: руби, мол.
Когда наконец пушки были вытащены наверх, начало светать. Внизу была
еще ночь, но здесь выступали из темноты прежде незаметные предметы: и
затоптанная сапогами молодая елочка, и куст смородины, приваленный снегом.
Весь склон, изрытый гусеницами, с раздавленными, расщепленными,
измочаленными деревьями, клочьями, втоптанных шинелей, досками, валявшимися
повсюду, говорил о тяжелой борьбе, которая была здесь. И люди, взошедшие на
него, увидели с гребня: начинается утро. Город, ночь были позади.
Как только тракторы, подцепив орудия, начали спускаться, отступил и
Архипов, все это время вместе с разведчиками сдерживавший немцев. Он
приволок с собой пулемет, рябоватый наводчик сорокапятимиллиметровой пушки
принес ящик с патронами.
Кто-то должен был остаться с пулеметом, задержать немцев, дать батарее
уйти.
Беличенко оглядел солдат. Лица их в этот час были бледней и бескровней,
как бывает перед рассветом, словно вся ночная усталость легла на них Кого
оставить? Назарова? Бородина? Беличенко остался сам. Не ушел от пулемета и
Архипов.
- Вместе с тобой начинали войну, вместе и кончать будем,- сказал он
Беличенко, впервые переходя на "ты".
Остался еще рябоватый сержант.
Недалеко от кривой яблоньки кто-то вырыл просторный окоп. Здесь и
расположились пулеметчики. Они сидели и слушали удалявшееся урчание
тракторов. Потом показались серые тени. Немцы шли за батареей, как волки по
следу, приглядываясь, держа автоматы наготове.
Пересиливая боль в раненой руке, Беличенко повел стволом пулемета. В
прорези возникали и исчезали фигуры немцев. Он подпустил их ближе, и пулемет
в его руках затрясся, заклокотал, вспышками освещая лицо горячие гильзы
посыпались под ноги.
Кто-то спрыгнул в окоп. Беличенко оглянулся со стиснутыми зубами, со
свирепым выражением, которое было у него в тот момент, когда он стрелял,-
Тоня! Этого он больше всего боялся. И еще тяжелое тело свалилось сверху,
поднялось, отряхивая колени. Это был Семынин. С ним в окопе сразу стало
тесно.
- Ты чего? - спросил Беличенко, потому что Тоню об этом спрашивать было
уже поздно.
- Вы ж воюете.
Он потеснил сержанта плечом, поворочался и, устроив автомат на
бруствере, начал стрелять, тщательно целясь. Стрелял и сержант из своего
карабина.
Каждый раз, когда смолкал пулемет, немцы подымались и перебегали,






 Лукин Евгений
Лукин Евгений Лукин Евгений
Лукин Евгений Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Курылев Олег
Курылев Олег Дальский Алекс
Дальский Алекс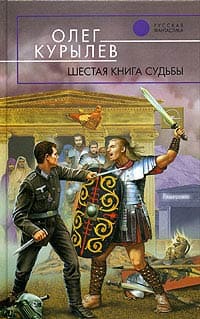 Курылев Олег
Курылев Олег