на марлевых тесемках покачивалась на ухе. Вдруг он схватился за нее,
поперхнувшись, страшно округляя глаза, заорал чужим голосом:
- Батар-ре-е!..
Перепрыгивая через котелки, все бросились к орудиям. В рассветном
сумраке Назаров, бледный, подняв руку, стоял позади окопов, и командиры
орудий на два голоса нараспев повторяли за ним команду. Они одновременно
махнули рукавицами:
- Ор-рудие!
Воздух толкнулся в уши, на миг осветились пламенем напряженные лица
солдат и стволы ближних сосен. Вслед за тем замковые весело рванули
рукоятки, и горячие гильзы, дымясь, со звоном откатились к их ногам.
- Огонь! - кричал Назаров яростно.
- Ор-рудие! - каждый своему расчету кричали сержанты, мощно раскатывая
"р". И пыль все выше подымалась над орудийными окопами.
От грохота пушек, озарявшихся пламенем, оттого, что кругом все были
заняты горячей работой и многие скинули с себя шинели, а главное, потому,
что все эти люди и пушки подчинялись его голосу, его команде, Назаров
находился в восторженном состоянии. Он чувствовал себя сильным, был уверен,
что немцы бегут, а до сознания никак не доходило, почему это все время
уменьшают прицел.
Вдруг он увидел, как заряжающий Карпов вместе со снарядом, который он
нес, ничком лег на землю и закрыл руками затылок. И остальные врассыпную
кинулись от орудий, попадали на землю. Назаров оглянулся. Из-за верхушек
сосен выскочил самолет, и впереди пушек с грохотом взлетела земля. Назарова
сбило с ног, ударило головой о станину. Слепой от боли, он вскочил. Другой
самолет низко прошел над окопами, строча из пулеметов, и мерзлая земля
задымилась. Назаров побежал, споткнулся о снарядный ящик, упал, ушиб коленку
и опять вскочил. И тут увидел, что все лежат, только он один под бомбежкой,
под обстрелом стоит на ногах. И радость, более сильная, чем страх, горячей
волной омыла его.
- Подъем! - закричал он счастливым голосом.- К ор-рудиям!
Один за другим солдаты поднимались с земли, отряхивали колени.
Телефонист перчаткой пытался счистить с шинели опрокинувшийся суп, но суп
примерз. Только Карпов остался лежать, закрыв руками затылок. Его оттащили в
ровик, другой номер поднял лежавший на земле снаряд, вогнал в пушку.
Теперь вели беглый огонь. Назаров командовал, стоя на снарядном ящике.
Он не стыдился уже ни молодости своей, ни своего звонкого голоса. И на
огневой позиции все время держалось веселое настроение.
К полудню повалил снег. Стало плохо видно. С наблюдательного пункта
передали команду: "Отбой!"
Тот же Ряпушкин принес обед. Назаров сидел в расстегнутой шинели,
золотые пуговицы на его гимнастерке были почему-то измазаны в глине он не
отчищал их. Зажав котелок в коленях, он ел, и все ели и были голодны, один
Карпов лежал в ровике на земле, в мокрой от пота, замерзшей .на нем
гимнастерке. Назаров все время чувствовал, как он там лежит: ведь только что
Карпов был жив... Но все ели суп, принесенный в том числе и на Карпова, как
на живого, и говорили громкими после боя голосами.
ГЛАВА IV
ОШИБКА
К полудню, когда стихло немного, старшина Пономарев отправился на НП. В
другое время он бы послал с обедом повозочного. Но сегодня, после того
обстрела, которому подвергся командир батареи на наблюдательном пункте,
неудобно было ему, старшине, отсиживаться на огневых позициях рядом с
кухней. И вместе с обедом он отправился сам.
В своей длинной шинели, взятой на рост больше из тех соображений, что
ею теплей укрываться, со строгим, голым и как бы помятым лицом, на котором и
в сорок три года почти ничего не росло, он шел впереди, недоступный никаким
посторонним чувствам, кроме чувства долга. Сзади тащился с термосом на спине
и котелками в обеих руках повозочный Долговушин, молодой унылый парень,
назначенный нести обед на НП в целях воспитания.
За год службы в батарее Долговушин переменил множество должностей,
нигде не проявив способностей. Попал он в полк случайно, на марше. Дело было
ночью. К фронту двигалась артиллерия, обочиной, в пыли, подымая пыль
множеством ног, топала пехота. И, как всегда, несколько пехотинцев
попросились на пушки, подъехать немного. Среди них был Долговушин. Остальные
потом соскочили, а Долговушин уснул. Когда проснулся, пехоты на дороге уже
не было. Куда шла его рота, какой ее номер - ничего этого он не знал, потому
что всего два дня как попал в нее. Так Долговушин и прижился в
артиллерийском полку.
Вначале его определили к Богачеву во взвод управления катушечным
телефонистом. За Днестром, под Яссами, Богачев всего один раз взял его с
собой на передовой наблюдательный пункт, где все простреливалось из
пулеметов и где не то что днем, но и ночью-то головы не поднять. Тут
Долговушин по глупости постирал с себя все и остался в одной шинели, а под
ней - в чем мать родила. Так он и сидел у телефона, запахнувшись, а напарник
и бегал и ползал с катушкой по линии, пока его не ранило. На следующий день
Богачев выгнал Долговушина к себе во взвод он подбирал людей, на которых
мог положиться в бою, как на себя.
И Долговушин попал к огневикам. Безропотный, молчаливо-старательный,
все бы хорошо, только уж больно бестолков оказался. Когда выпадало опасное
задание, о нем говорили: "Этот не справится". А раз не справится, зачем
посылать? И посылали другого. Так Долговушин откочевал в повозочные. Он не
просил, его перевели. Может быть, теперь, к концу войны, за неспособностью
воевал бы он уже где-нибудь на складе ПФС, но в повозочных суждено было ему
попасть под начало старшины Пономарева. Этот не верил в бестолковость и
сразу объяснил свои установки:
- В армии так: не знаешь - научат, не хочешь - заставят.- И еще сказал:
- Отсюда тебе путь один: в пехоту. Так и запомни.
- Что ж пехота? И в пехоте люди живут,- уныло отвечал Долговушин,
больше всего на свете боявшийся снова попасть в пехоту.
С тем старшина и начал его воспитывать. Долговушину не стало житья. Вот
и сейчас он тащился на НП, под самый обстрел, все ради того же воспитания.
Два километра - не велик путь, но к фронту, да еще под обстрелом...
Опасливо косясь на дальние разрывы, он старался не отстать от старшины.
Не прошли и полдороги, а Долговушин упарился под термосом: по временам
он начинал бежать, спотыкаясь огромными сапогами о мерзлые кочки при этом
суп взбалтывался.
Снег все шел, хотя и редкий уже. На правом фланге догорали два танка.
Издали нельзя было разобрать чьи. Мазутно-черные, тонкие у земли дымы,
разрастаясь кверху и сливаясь вместе, подпирали небо.
Где овражком, где перебегая от воронки к воронке, Пономарев и
Долговушин добрались наконец до наблюдательного пункта батареи. Вся высота
была взрыхлена снарядами, засыпана выброшенной взрывами землей. В одном
месте ход сообщения обрушило прямым попаданием, пришлось перелезать завал.
Здесь же, в первой щели, лежал убитый. Лежал он неудобно, не как лег бы сам,
а как втащили его сюда. Шинель со спины горбом наползла на голову, так что
хлястик оказался выше лопаток, толстые икры ног судорожно напряжены. При
зимнем рассеянном свете тускло блестели стертые подковки ботинок. Не видя
лица, по одному тому, как ловко, невысоко, щеголевато были намотаны обмотки,
старшина определил в убитом бывалого солдата.
Дальше наткнулись на раненых. По всему проходу они сидели на земле,
курили, мирно разговаривали. От близких разрывов и посвистывания пуль, при
виде убитого, раненых и крови на бинтах Долговушину, пришедшему сюда из
тыла, представилось, что вот тут и есть передний край. Но для раненых
пехотинцев, которые шли сюда с передовой, эта высота с глубокими, не такими,
как у них там, траншеями была тылом. Они пережидали здесь артналет, и
оттого, что никого не убило, не задело, место это казалось им безопасным, и
уже не хотелось уходить отсюда до темноты.
Завидев артиллерийского старшину, они стали поспешно подбирать ноги.
Пономарев шел хозяйски, со строгим, замкнутым лицом - начальник. В душе он
всегда чувствовал, что вот люди воюют, а он в тепле, при кухне, с
портянками, тряпками, ботинками - тихое тыловое житье на фронте. Сегодня,
когда начали наступать немцы и в батарее уже были убитые, это чувство было в
нем особенно сильно и он был особенно уязвим. Ему казалось, что эти раненые,
пережившие и страх и боль, потерявшие кровь, именно это должны видеть и
думать, глядя на него, идущего из тыла, от кухни, конвоиром при термосе с
супом. Потому-то и шел он со строгим лицом.
Hо пехотинцы опасались главным образом, как бы их не погнали отсюда, с
чужого НП, и услужливо подбирали ноги. Только молодой, рыжеватый, красивый
пехотинец, нянчивший на коленях свою толсто забинтованную руку, не
посторонился и ног не убрал, предоставляя шагать через них. И пока Пономарев
перешагивал, он снизу вверх вызывающе глядел на него.
Послышался вой мины. Удивительно проворно Долговушин присел, а
Пономарев под взглядами пехотинцев (может быть, они и не смотрели вовсе, но
он это всей спиной чувствовал) с ненавистью пережил его трусость.
Они свернули за поворот. Из дыма показалась Тоня, ведя опиравшегося на
нее разведчика. Он ладонью зажимал глаза, она что-то говорила ему и пыталась
отнять руку, разведчик тряс головой, мычал. Пономарев пропустил их и увидел
Беличенко, быстро шагавшего по траншее навстречу.
- Ага, старшина! Давай корми людей быстро, скоро он опять начнет. И
Богачеву отошли. Вон на ту высоту, видишь? Он теперь там с пехотой сидит.
В белой, испачканной землей кубанке, сдвинутой на потный лоб, о мрачно
блестевшими из-под нее глазами, большой, разгоряченный, комбат подошел к
ним. Телогрейка его, перетянутая широким ремнем, была разорвана на плече,
оттуда торчала грязная вата глянцевая, темная от времени кобура пистолета
исцарапана о стенки окопов. Он первый, сутулясь, шагнул в блиндаж. Старшина
задержался пошептаться с Горошко: там, где касалось обеспечения комбата, он
политично действовал через ординарца.






 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна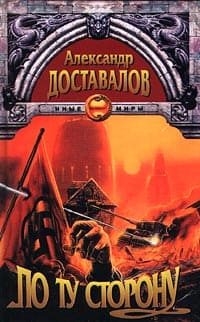 Доставалов Александр
Доставалов Александр Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Посняков Андрей
Посняков Андрей