Когда вошла Тоня, Пономарев скромно сидел у двери на уголке нар, свесив
ноги в крепких яловых сапогах с яловыми голенищами до колен. Другие старшины
щеголяли в хромовых сапожках, шили себе офицерские шинели. Пономарев ничего
неположенного себе не позволял. Он ходил в солдатской шинели, но хорошего
качества, и сапоги у него были довоенные, неизносные. Теперь ставили
кирзовые голенища, а таких, как у него, яловых, таких теперь не найти.
Понимающие люди знали: им цены нет.
Небольшой, жилистый, с ничего не выражавшим лицом, какое бывает у людей
осторожного ума, он походил сейчас на гостя, приехавшего из деревни
проведать родню и привезшего с собой гостинцы и многочисленные поклоны.
Такой, если и не одобряет чего-либо, разумно умалчивает об этом. Старшина не
одобрял Тониного присутствия здесь. Однако свое неодобрение выказывал только
тем, что в разговоре обходил Тоню взглядом, словно ее тут не было вовсе.
Все время, пока Беличенко ел, он продолжал сидеть у дверей на тот
случай, если бы, например, комбат захотел справиться о батарейном хозяйстве
или отдать какие-либо хозяйственные распоряжения. Такие распоряжения
Пономарев всегда уважительно выслушивал, зная, что начальство не любит,
когда ему возражают, а дальше поступал по своему разумению.
- Целы у Афонина глаза,- сказала Тоня,- землей запорошило.- Взглядом
хозяйки она быстро оглядела стол.- А что же ты комбату водки не нальешь?
Горошко молча налил водки, после этого отошел в угол и оттуда
презрительно наблюдал, как она хозяйничает.
Обычно Беличенко посмеивался над ним: "Никак две хозяйки не уживутся
под одной крышей". Сейчас он ел рассеянно, прислушиваясь к звукам снаружи.
Даже водку выпил без охоты, медленно и прикрыв глаза, как пьют усталые люди.
Он рано положил ложку, встал, зализывая цигарку.
Наверху разорвался снаряд, все подняли головы. Горошко вскинул на плечо
ремень автомата, готовый сопровождать, не спрашивая. У Беличенко глаза
ожили. Хлопая себя по карманам, он искал зажигалку. Он не помнил, что уронил
ее около стереотрубы.
- Вот ваша зажигалка,- сказал Ваня, подав. Разве ж мог он допустить,
чтобы у комбата пропала такая нужная вещь? Когда шли танки, было не до нее,
но после Ваня зажигалку нашел и спрятал.
Беличенко закуривал, прислушиваясь. Наверху уже все дрожало от взрывов.
Дверь землянки сама медленно растворялась, край неба, видный над бруствером
траншеи, от поднявшейся пыли был весь как в дыму. Беличенко пыхнул цигаркой,
блестя сузившимися, недобро повеселевшими глазами, сказал:
- Мотай-ка на огневые, старшина, делать тебе здесь нечего: немец опять
пошел.
За дверью давно уже томился Долговушин с пустым термосом, оборачиваясь
на каждый выстрел. Раненых в проходе не было. Они все куда-то убрались. Едва
Пономарев и Долговушин покинули НП, как попали под обстрел. Они перележали
его в неглубокой воронке. Первым поднялся старшина, отряхнулся и вкось
строго глянул на повозочного. Но тут сбоку откуда-то ударил пулемет, и они
побежали не той дорогой, которой шли раньше, а влево, к видневшейся вдали
рыжей полоске кукурузы: там, казалось, безопасно. Сапоги скользили,
спотыкались по комковатой зяби, пули высвистывали над ухом, рвали комочки
земли из-под ног.
Когда наконец достигли кукурузы, у Пономарева по груди и под мышками
текли струйки пота, Долговушин дышал с хрипом. Пули и здесь летали, но не
так густо: они щелкали по мертвым стеблям, сбивая их на землю.
Отсюда Пономарев оглянулся. Еще не вечерело, но свету убавилось, и даль
стала синей. На фоне ее хорошо были видны обе высоты, белые от недавно
выпавшего снега. Над той, которую оборонял Богачев, таял дымок разрыва,
точно облачко, севшее на вершину сопки. А в развилке между высотами горела
самоходка, и несколько немецких танков, открыто стоя на поле, вели по ней
сосредоточенный огонь.
Теперь впереди, горбясь, шагал Долговушин, сзади - старшина. Неширокая
полоса кукурузы кончилась, и они шли наизволок, отдыхая на ходу: здесь было
безопасно. И чем выше взбирались они, тем видней было им оставшееся позади
поле боя оно как бы опускалось и становилось плоским по мере того, как они
поднимались вверх. Пономарев оглянулся еще раз. Немецкие танки расползлись в
стороны друг от друга и по-прежнему вели огонь. Плоские разрывы вставали по
всему полю, а между ними ползли пехотинцы вcякий раз, когда они подымались
перебегать, яростней начинали строчить пулеметы.
Чем дальше в тыл, тем несуетливей, уверенней делался Долговушин. Им
оставалось миновать открытое пространство, а дальше на гребне опять
начиналась кукуруза. Сквозь ее реденькую стенку проглядывал засыпанный
снегом рыжий отвал траншеи, там перебегали какие-то люди, изредка над
бруствером показывалась голова и раздавался выстрел. Ветер был встречный, и
пелена слез, застилавшая глаза, мешала рассмотреть хорошенько, что там
делается.
Но они настолько уже отошли от передовой, так оба сейчас были уверены в
своей безопасности, что продолжали идти не тревожась. "Здесь, значит, вторую
линию обороны строят",- решил Пономарев с удовлетворением. А Долговушин
поднял вверх сжатые кулаки и, потрясая ими, закричал тем, кто стрелял из
траншеи.
- Э-ей! Слышь, не балуй!
И голос у него был в этот момент не робкий: он знал, что в тылу
"баловать" не положено, и в сознании своей правоты, в случае чего, мог и
прикрикнуть.
Действительно, стрельба прекратилась. Долговушин отвернул на ходу полу
шинели, достал кисет и, придерживая его безымянным пальцем и мизинцем,
принялся свертывать папироску. Даже движения у него теперь были степенные.
Скрутив папироску, Долговушин повернулся спиной на ветер и, прикуривая,
продолжал идти так.
До кукурузы оставалось метров пятьдесят, когда на гребень окопа
вспрыгнул человек в каске. Расставив короткие ноги, четко видный на фоне
неба, он поднял над головой винтовку, потряс ею и что-то крикнул.
- Немцы! - обмер Долговушин.
- Я те дам "немцы"! - прикрикнул старшина и погрозил пальцем.
Он всю дорогу не столько за противником наблюдал, как за Долговушиным,
которого твердо решил перевоспитать. И когда тот закричал "немцы", старшина,
относившийся к нему подозрительно, не только усмотрел в этом трусость, но
еще и неверие в порядок и разумность, существующие в армии. Однако
Долговушин, обычно робевший начальства, на этот раз, не обращая внимания,
кинулся бежать назад и влево.
- Я те побегу! - кричал ему вслед Пономарев и пытался расстегнуть
кобуру нагана.
Долговушин упал, быстро-быстро загребая руками, мелькая подошвами
сапог, пополз с термосом на спине. Пули уже вскидывали снег около него.
Ничего не понимая, старшина смотрел на эти вскипавшие снежные
фонтанчики. Внезапно за Долговушиным, в открывшейся под скатом низине, он
увидел санный обоз. На ровном, как замерзшая река, снежном поле около саней
стояли лошади. Другие лошади валялись тут же. От саней веером расходились
следы ног и глубокие борозды, оставленные ползшими людьми. Они обрывались
внезапно, и в конце каждой из них, где догнала его пуля, лежал ездовой.
Только один, уйдя уже далеко, продолжал ползти с кнутом в руке, а по нему
сверху безостановочно бил пулемет.
"Немцы в тылу!" - понял Пономарев. Теперь, если надавят с фронта и
пехота начнет отходить, отсюда, из тыла, из укрытия, немцы встретят ее
пулеметным огнем. На ровном месте это - уничтожение.
- Правей, правей ползи! - закричал он Долговушину. Но тут старшину
толкнуло в плечо, он упал и уже нe видел, что произошло с повозочным. Только
каблуки Долговушина мелькали впереди, удаляясь. Пономарев тяжело полз за ним
следом и, подымая голову от снега, кричал: - Правей бери, правей! Там скат!
Каблуки вильнули влево. "Услышал!" - радостно подумал Пономарев. Ему
наконец удалось вытащить наган. Он обернулся и, целясь, давая Долговушину
уйти, выпустил в немцев все семь патронов. Но в раненой руке нe было упора.
Потом он опять пополз. Метров шесть ему осталось до кукурузы, не больше, и
он уже подумал про себя: "Теперь - жив". Тут кто-то палкой ударил его по
голове, по кости. Пономарев дрогнул, ткнулся лицом в снег, и свет померк.
А Долговушин тем временем благополучно спустился под скат. Здесь пули
шли поверху. Долговушин отдышался, вынул из-за отворота ушанки "бычок" и,
согнувшись, искурил его. Он глотал дым, давясь и обжигаясь, и озирался по
сторонам. Наверху уже не стреляли. Там все было кончено. "Правей ползи",-
вспомнил Долговушин и усмехнулся с превосходством живого над мертвым.
- Вот те и вышло правей...
Он высвободил плечи от лямок, и термос упал в снег. Долговушин отпихнул
его ногой. Где ползком, где сгибаясь и перебежками, выбрался он из-под огня,
и тот, кто считал, что Долговушин "богом ушибленный", поразился бы сейчас,
как толково, применяясь к местности, действует он.
Вечером Долговушин пришел на огневые позиции. Он рассказал, как они
отстреливались, как старшину убило на его глазах и он пытался тащить, его
мертвого. Он показал пустой диск автомата. Сидя на земле рядом с кухней, он
жадно ел, а повар ложкой вылавливал из черпака мясо и подкладывал ему в
котелок. И все сочувственно смотрели на Долговушина.
"Вот как нельзя с первого взгляда составлять мнение о людях,- подумал
Назаров, которому Долговушин не понравился.- Я его считал человеком себе на
уме, а он вот какой, оказывается. Просто я еще не умею разбираться в
людях..."
И поскольку в этот день ранило каптера, Назаров, чувствуя себя
виноватым перед Долговушиным, позвонил командиру батареи, и Долговушин занял
тихую, хлебную должность каптера.
ГЛАВА V
О ТЕХ, КОГО УЖЕ НЕ ЖДУТ
Неопределенный красноватый свет стоял над горизонтом, и небо на юге
вздрагивала от вспышек. В той стороне, ближе к Балатону, по-прежнему гремел


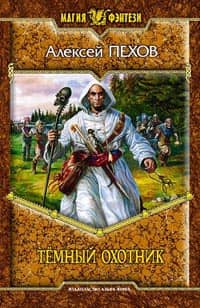

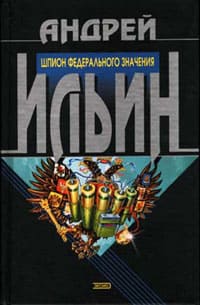

 Посняков Андрей
Посняков Андрей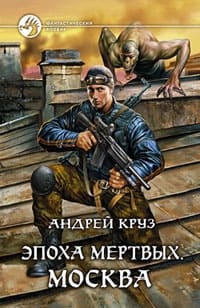 Круз Андрей
Круз Андрей Бажанов Олег
Бажанов Олег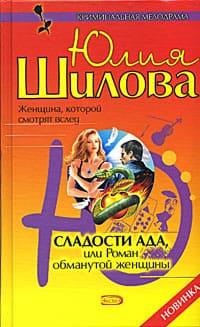 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур