не выжил. Добрые люди устроили его на лесосклад напротив дома, куда он с
помощью палок своих кое-как добирался и дежурил там через ночь.
независимых суждений, всегда имея на все оригинальную точку зрения, к учению
Епэнэмэ относился без уважения еще в те времена, когда мало кто до этого
решался додуматься. Я под его влиянием тоже стал размышлять и усомнился в
том, что еще недавно мне казалось незыблемым. Я стал думать, а почему это
Епэнэмэ считается единственно правильным и научным и почему ради грядущего
блага народа надо было столько этого же народа убивать, травить, топить,
морить голодом и вымораживать? И не лучше ли придумать какое-нибудь
Единственно Неправильное Епэнэмэ, но к людям помилосерднее? Однако до сих
пор приверженцы Епэнэмэ говорят, что теория была хорошая, а практика плохая.
Ленин правильно разработал, а Сталин неправильно применил. А кто, где, в
какой стране правильно применил? Хрущев? Брежнев? Мао Цзэдун? Ким Ир Сен?
Хошимин? Пол Пот? Кастро? Хоннекер? Кто? Где? Когда? Что же в этой теории
такого хорошего, если она никакой практикой, нигде и ни при каких
обстоятельствах подтвердиться не может?
поубавилось. Но в описываемые времена они водились на наших просторах в
довольно больших количествах, и одним из них был Марк Семенович Шубкин,
верный исповедник Епэнэмэ, ученик сначала Ленина-Сталина, а потом только
Ленина. Но зато уж за Ленина он держался долго, крепко и безоглядно.
Верность Епэнэмэ и Ленину Шубкин хранил до и после ареста, во время ночных
допросов, даже в годы, проведенные на общих работах. Несмотря на голод и
холод, никогда, ни разу, ни на одну минуту (до определенного времени) не
усомнился. Крупные и мелкие дьяволы часто искушали его, пытаясь посеять
сомнения, но он терпел, как Иисус Христос, в которого он не верил.
жгут полотенцем, последними словами ругаясь, слепил настольной лампой, и
спать не давал, и сидеть не давал, а когда Марк Семенович, стойко все это
выдерживая, показывал на висевший над ним портрет Ленина и корил следователя
цитатами из Ленина, тот отвечал просто: "Срал я на твоего Ленина". На что
Шубкин не находил достаточно убедительных контраргументов. Но стойкость
проявлял прежнюю. И вышел из лагеря несломленным, непокоренным, не
изменившим своим убеждениям. То есть, по словам Адмирала, вышел таким же
дураком, каким и вошел. Пломбированный дурак, называл его Адмирал, то есть
дурак с апломбом.
отношению к Шубкину - незаслуженно резкими. Все-таки если человек прошел
через лагеря и несмотря ни на что не изменил своим убеждениям, разве это не
достойно уважения?
не глупость, это идиотизм.
пытался сокрушить его веру в Епэнэмэ и в главного идола. Рассказывал Шубкину
о немецких деньгах, немецком вагоне (кстати, пломбированном), о
расстрелянных по личному приказу "самого человечного изо всех прошедших по
земле людей" священниках и проститутках, о прогрессивном параличе на почве
сифилиса и о многом другом, что тогда было известно немногим. Но все эти
рассказы не производили на Шубкина ни малейшего впечатления. Тем более что
многое он знал и сам. Но поступки своего кумира объяснял объективными
обстоятельствами, суровой необходимостью и тем, что революцию в белых
перчатках не делают. Он советовал Адмиралу внимательно перечитать полное
собрание сочинений Ленина. "И тогда, - говорил он, - даже вам станет ясно,
что Ленин - гений." "Если гений, - спорил Адмирал, - то почему же так
бездарен построенный им лагерный социализм?" Шубкин возражал: "Ленин
собирался построить не то, что есть, а что-то получше". "Но гений, - говорил
Адмирал, - строит то, что хочет, а не что-то другое." "Ленин, - объяснял
Шубкин, - не мог предвидеть инертности крестьянской массы, которая не поймет
преимуществ социализма, не мог предвидеть, что к руководству страной
проберется мелкобуржуазный элемент, что руководство свернет с избранной им
дороги, откажется от нэпа, поспешит с коллективизацией." "Но гением, - не
уступал Адмирал, - считается только тот, кто предвидит. А для того, чтобы не
предвидеть, не надо быть гением. Не предвидеть мы все умеем." "Владимир
Ильич, - вздыхал Шубкин, - родился на сто лет раньше своего времени." "С
этим я согласен, - охотно кивал головою Адмирал, - но вам в вашем возрасте
пора знать, что раньше времени рождаются недоноски."
половину 70-х - оставался верен Епэнэмэ и при этом вел себя почти в полном
соответствии с заветом Христа, который сказал своим апостолам: идите и
проповедуйте. Шубкин проповедовал взрослым и детям, даже детям дошкольной
группы, вбивая в детские головы Епэнэмэ в доступной им форме.
подозревая Шубкина в том, что он, рассказывая детям будто бы безобидные
сказки, вкладывает в них вовсе не безобидный смысл. И точно. Рассказывая о
волке и трех поросятах, Шубкин под серым волком подразумевал не американский
империализм, как хотела Аглая, и не просто лесного хищника, а Сталина, а под
поросятами - верных, как он теперь считал, ленинцев - Троцкого, Бухарина и
Зиновьева.
Глава 18
Шубкиным, была вокзальная буфетчица Тонька Углазова, невысокая полная
женщина тридцати пяти лет с грустными глазами и нелегкой судьбой. В тихий,
опутанный паутиной солнечный день бабьего лета она скучала, положив на
прилавок свою пышную грудь и руками подперев подбородок, когда перед ее
взором возник сошедший с поезда пассажир в старой армейской шинели и шапке с
длинными ушами из шинельного тоже сукна. Он снял шапку и, протерши ею
обширную лысину (Тонька уже тогда обратила внимание, что голова была у него
необычно большая), спросил, сколько стоят пирожки с капустой.
глаз нет? И кивнуть на ценник, стоявший прямо перед ним. Но, посмотрев на
него, передумала, смахнула ценник и сказала: на рупь четыре, хотя они стоили
в два раза больше. Он удивился: почему так дешево? Она пожала плечами - а
вот так.
выходившего на пыльный пристанционный скверик. Там посреди пыльной клумбы
виднелся памятник Ленину, изображавший дни, проведенные прототипом в
Разливе. Гипсовый Ильич, расположившись на гипсовом пне, писал в гипсовой
тетради "Апрельские тезисы", а под пьедесталом, прислонившись к нему спиной,
дремал, сидя, пьяный мужик с бутылкой, и тут же паслись две козы. Приезжий
смотрел в окно, Антонина смотрела на приезжего, и хотя он пирожки ел
аккуратно, не чавкая, и чай пил маленькими глотками, она поняла, что он
оттуда. Да и как было не понять, когда сама она в том мире жила, где люди
туда уходили и оттуда возвращались или не возвращались. Ушедшим и пока не
вернувшимся был ее муж Федя, который сначала бил смертным боем Антонину, а
потом завел себе полюбовницу, бил и ее и, наконец, вовсе зарубил топором. Ее
тогда еще товарки поздравляли: "Ой, Тонька, повезло-то как. Не было б у него
Лизки, тебя б зарубил".
топора, но и таких, как он, Антонина тоже встречала, их называли
политические, контрики, фашисты, но люди они были в основном культурные.
хотелось плакать. Один раз она даже нагнулась под прилавок и смахнула слезу.
той же цене и еще стакан чаю и спросил у нее, не знает ли она, у кого тут
можно временно поселиться. И она, имея комнату в пристанционном бараке,
сказала, что - у нее. Он, не раздумывая, перетащил к ней чемодан, и они
стали жить вместе.
прижимая его голову к своей тоже немалой груди.
заведется, то скатится, потому как у вас вон как круто, прям как это ну как
вот...
поселился, рубашки на нем всегда были свежие, носки заштопанные, брюки
глаженые. Трех месяцев не прошло, щеки его округлились и животик наметился.
На собственный свой живот Марк Семенович, бывший лагерный доходяга, часто и
довольно поглядывал и иногда поглаживал его с уважением. Заботясь о Шубкине,
Антонина делала все бескорыстно, не требуя от него ответно ни любви, ни
церкви, ни расписки, ни верности. Только смотрела на него часто с радостью,
что он есть, и с грустью от понимания, что навряд ли надолго задержится.
что именно это его и устраивает. Ровня у него уже была. Ее звали Ляля. Она
называла Марка Семеновича Маркелом, не ценила его таланта, но любила тряпки,
рестораны, оперных теноров и вообще шикарную жизнь. Представить себе ее
стоящей у плиты, штопающей или хотя бы пришивающей пуговицы было невозможно.
К счастью для Шубкина, Ляля не выдержала испытания долгой разлукой, о чем он
в ханты-мансийской тайге узнал из телеграммы:



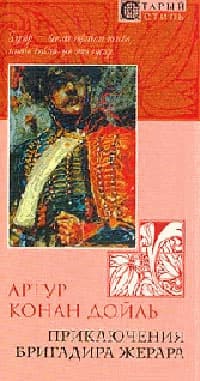
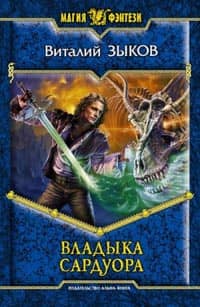
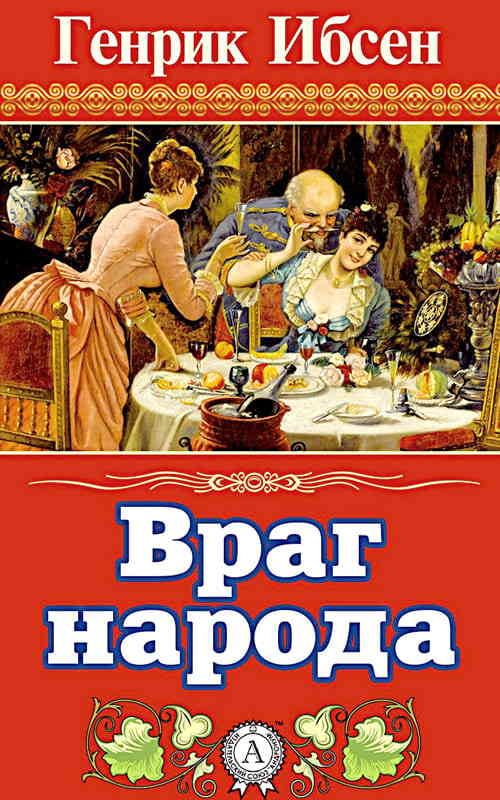
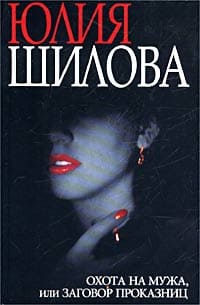 Шилова Юлия
Шилова Юлия Ильин Андрей
Ильин Андрей Бажанов Олег
Бажанов Олег Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Прозоров Александр
Прозоров Александр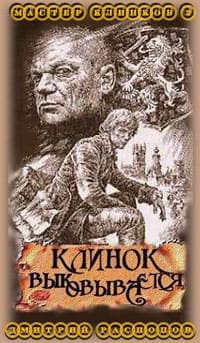 Распопов Дмитрий
Распопов Дмитрий