и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных
усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов,
пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и,
улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь... в
передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена
свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.
вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром
поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал
восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот
и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии
вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в
теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело,
никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через
десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с
громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз
часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные штыки.
Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные
пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души
юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.
жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.
вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского
лейтенанта и говорил по-немецки.
ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг
вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами "Ю.-З. ж.д."
и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а
впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг
расстроился.
3
Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой
нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в
буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды
Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме
спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и
находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и,
вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа,
изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами,
красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинствен в
глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась
прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович
Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя - Лисович, многие
люди, с которыми он сталкивался, звали его Василием Ивановичем, но
исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл
инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с
января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса,
сменил свой четкий почерк и вместо определенного "В.Лисович", из страха
перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках,
удостоверениях, ордерах и карточках писать "Вас. Лис.".
восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный
удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул
как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя
домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не
испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:
рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича
больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город
начал называть инженера Василисой, и лишь владелец женского имени
рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.
скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены,
Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку
и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил
четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во
тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил
палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке,
аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну
и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до
половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо
оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил
что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз
по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и
вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самим же им
изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу - тонкую цинковую
пластинку - отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал
простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом
ключа, выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и
запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и
закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока
не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером они легли на разрез так
аккуратно, что прелесть: полбукетик к полбукетику, квадратик к квадратику.
Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких
признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и
сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.
слезла с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но
жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу
инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне.
Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась
волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели
все ее следы.
вниз, пушистые - какая, к черту, Василиса! - это мужчина. В ящиках
прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых
бумажек - зеленый игральный крап:
серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого
же селянина и селянки. И тут усы вниз, по-украински. И надо всем
предостерегающая надпись:
строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебiдя-Юрчика и
ласково - на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужасе чиновник со
Станиславом на шее - предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете
мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял
золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.
"катеринок", девять "петров", десять "Николаев первых", три бриллиантовых
кольца, брошь, Анна и два Станислава.
серебряных ложек, золотые часы с цепью, три портсигара ("Дорогому
сослуживцу", хоть Василиса и не курил), пятьдесят золотых десяток,
солонки, футляр с серебром на шесть персон и серебряное ситечко (большой
тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от
меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в
клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).
балкой в глине: щипцы сахарные, сто восемьдесят три золотых десятки, на
двадцать пять тысяч процентных бумаг.
слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно
побледнел.
горе-то. А?
четвертом десятке - две, в шестом - две, в девятом - подряд три бумажки
несомненно таких, за которые Лебiдь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто




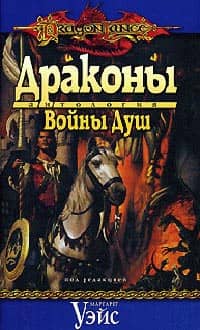

 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна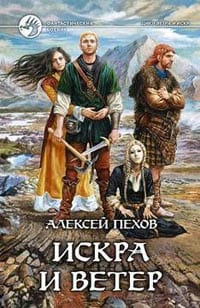 Пехов Алексей
Пехов Алексей Аникина Наталья
Аникина Наталья Никитин Юрий
Никитин Юрий Василенко Иван
Василенко Иван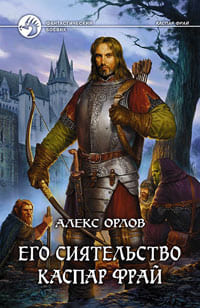 Орлов Алекс
Орлов Алекс