сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел
выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.
светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную
веранду, Турбину стал сниться Город.
4
и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных
труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег.
И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были
черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько
хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко
подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным
гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по
образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и
темные воротники - мех серебристый и черный - делали женские лица
загадочными и красивыми.
снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они
раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами,
кленами и липами.
поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в
нежных сумерках царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные
балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте.
Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те
расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи, над шоссе,
вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в
дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые
пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.
верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине
замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий,
смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за
солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня
начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых
фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных
окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном
электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны
неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие
самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и
мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и
туманом.
Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в
черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки
видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням.
Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над
темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты
два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободку
на том берегу, другой - высоченный, стреловидный, по которому прибегали
поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю
шапку, таинственная Москва.
которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За
каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные
жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых
пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому
стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.
оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять
связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве,
домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники,
купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и
петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из
аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные
развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров
департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты
и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса,
просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.
пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными
обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные
лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и
где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках
которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры,
слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр "Лиловый негр" и
величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб "Прах" (поэты -
режиссеры - артисты - художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли
новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в
этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали
седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная
музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых,
истощенных, закокаиненных проституток.
шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности
городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых
русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и
украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе "Максим"
соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были
чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы - бархатные.
Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света - вниз белый
электрический, а вбок и вверх - оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку
разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и
лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и
французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали
дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели
машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого
жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного
шампанского вина "Абрау".
хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком
штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в
пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок в
магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным
разрезом. Покупали девкам лак.
черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая
страна - Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая
визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и
дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот
большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при
мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше
тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг
приходили в бессонные ночи на чужих диванах.
серые. Ох, страшно...
мягкие удары пушек - под Городом стреляли почему-то все лето,
блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические
немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на
окраинах: па-па-пах.
успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по
Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые
шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные
подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна
к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи
сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских
вождей на памятниках городка Берлина.
злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла,
из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в
ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют
из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники
лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все - купцы, банкиры,
промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены
государственного совета, инженеры, врачи и писатели...






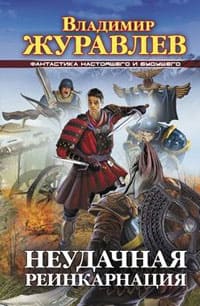 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Березин Федор
Березин Федор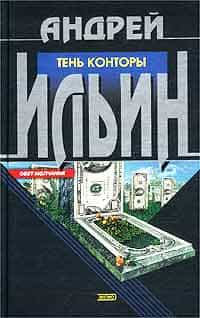 Ильин Андрей
Ильин Андрей Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Свержин Владимир
Свержин Владимир Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий