тебя счастьем соприкосновения с прекрасным. Но я не сказал главного слова,
по праву ей принадлежащего, да и пришло оно, это главное слово, позднее,
когда я понял, что ничего человеку даром не дается, даже избранному,
"отмеченному" "там" и к нам на утешение и радость высланному.
увидел ее воочию, не через окошко телевизора. Спектакль был будничный. В
зале не было почетных гостей и "представителей", зато было много неряшливо,
по-уличному одетых иностранцев. И, может поэтому состав спектакля оказался
более чем скромный, который, может, и украсил бы областной театр, но на
сцене Большого выглядел удручающе убогим. Было обидно за театр, все еще
благоговейно нами называемый с большой буквы, театр, в котором на этой же
сцене накануне совершался великий балет "Спартак" и неземные "звезды" до
того ослепляюще сверкали, что дух захватывало от чуда, творимого на сцене. И
вот здесь же -- плохо двигающиеся, перекрашенные, перезатянутые,
слабоголосые люди пытались под музыку Чайковского изобразить страсть,
страдание, да ничего не изображалось. На публику со сцены веяло холодом.
Иностранцы открыто и демонстративно зевали и резинку жевали. Наши зевать не
смели из уважения к стенам этого театра и к билету, который они купили с рук
по стоимости месячной студенческой стипендии.
та аж содрогнулась, и публика в зале оробела, иностранцы не только зевать,
но и жевать перестали, подумав, видать, что начинается не иначе как "происк
большевизма". У одного иностранца с испугу даже бакенбард "штраусовский"
отклеился.
задвигались вокруг исполнители, и дирижерская палочка над оркестровой ямой
живой щетинкой замелькала, запереливался свет, засверкали искры снега в
холодном Петербурге, даже серпик искусственной луны живей засеребрился, а уж
когда она соорудила свою "корону" -- романс графини, да еще и на
"французском"!.. публика впала в неистовство. "Заглотнула разом и всех!.."
-- с восторгом ахнул я, отбивая ладоши.
сотоварищам ее по труду. И не первый раз подивился я благородству настоящего
таланта. Может, на собрании "прима" будет разоряться, топать ногами, но на
сцене не придавит собой никого и никогда.
и пел Мефистофеля в "Фаусте". Напарнички ему в спектакле угодили из тех,
коим годик-другой оставалось допеть до пенсии. В латы закованные, они могли
топорщиться, греметь, "отправляясь в поход", да голосок-то -- как в одном
месте волосок, -- его не прибавишь, не убавишь, думалось мне. Ан "ради
общего дела" Огнивцев малость "припрятывал" голосу и двигался не так
сокрушающе, как мог, -- я видел и слышал его в "Хованщине" на сцене Большого
и возможности певца знал.
партию, но и за его "партнерство", за то, что не унизил он и без того
униженную российскую провинцию. Девчонки из местных меломанок, хлопавшие
Огнивцеву и "браво!" кричавшие, когда он вышел на седьмой или восьмой поклон
уже без парика и склонил свою русую головушку, восторженно вскрикнули:
"Дьявол-то еще ничего!" -- "Да что там ничего? Молодец!"
казалось мне, раскланивающуюся, -- шутка ли, вывезла ведь, вывезла в гору
скрипучую телегу с грузным возом, постояла за честь Великого театра! --
наконец отпустили домой, отдыхать.
Кремлевского Дворца съездов (было это во время писательского съезда)
братья-писатели с восторгом рассказывали, как во втором отделении пела она
-- царица, демон, сокрушительница, дьявол -- "Кармен" с одною серьгою в
ухе!.. Ка-ак выдала: "День ли царит... Все, все! Все о тебе!.." Ну я от
восторгу чувств прямо обнять кого-нибудь готов был"! -- ликовал
писатель-провинциал с Кубани.
надеть вторую серьгу!" -- махнул я рукой.
сила и стихия таланта несли и несут ее по волнам славы. И пусть несут.
Только чтоб не опрокинули вниз головой в тухлые воды современного искусства.
уважительно-ласковый, но и дошлый. Поет "посланница советского искусства",
овации в зале бушуют, а телевизионная камера показывает не только ее
белозубый рот, концертное платье и драгоценности в ушах и на шее, как это
делают наши "скромные" операторы. Они лицо, непривычно утомленное,
показывают и как-то умудряются большое внутреннее напряжение певицы
изобразить.
честь". Что в зале поднялось -- ни в сказке сказать, ни пером описать! Она
раскланивается, раскланивается и все норовит за кулисы усмыгнуть. "Устала",
-- догадался я. Японский же оператор все не отпускает ее, все гонится за нею
с камерой, и за сцену ее сопроводил, чего наши, Боже упаси, никогда не
сделают. Впереди певицы пятится пожилой японец интеллигентный -- организатор
гастролей, тоже аплодирующий и кланяющийся. За сценой какие-то люди
поднялись с кресел, зааплодировали певице, она и им слегка поклонилась,
одарила их улыбкой, потом увидела чашечку, из которой пила, видать, перед
началом концерта, взяла эту чашечку, предусмотрительно подставив под нее
ладошку -- японцы все замечают, на то у них и глаза вразбежку -- надо вести
себя "интеллигентно", -- отпила глоток остывшего чая и со стоном исторгла:
"О-о-о-о!"
когда, будучи в гостях у замечательного русского композитора Георгия
Васильевича Свиридова, сказал об этом, он заметил: "А как же! Думаю, что она
"Честь" эту самую пела еще студенткой консерватории. В конкурсных программах
пела. Да где она и чего не пела?А все репетирует, репетирует!.. Вот мы
готовим с ней концертную программу, так кто кого больше замучил -- сказать
не берусь..."
девки, где парни -- не разберешь, голоса и волоса неразличимы, сплошь
визгливо-бабьи. Знаменитый на всю Европу ансамбль осчастливил нас, "отсталых
и сирых". Хитрая, нагловатая девка, наряженная в цирковые штаны,
раскосмаченная и накрашенная под шамана, в заключение самого сокрушительного
"нумера" перевернувшись через голову, мелькнула сексуально развитым задом и,
невинно пялясь шалыми глазами на ликующую публику, сказала: "Сенк-ю!",
сказала той самой публике, над которой в недоступных высях богами реют и
звучат Шаляпин, Собинов, Лемешев, Пирогов, Михайлов, Обухова, десятки других
российских талантов. Слушая их, охваченный восторгом мир любовью
объединялся, когда бесстрашно шел на баррикады. И если мы по сию пору не
совсем еще одичали, "виновата" в том и наша вокальная русская школа, и новая
волна прекрасных певцов-тружеников. Среди них первый запевала -- она!
названием "Институт имени Сеченова", где не столько лечат, сколько калечат,
я познакомился с человеком, который походил сразу на всех иностранцев, но в
первую голову на итальянца.
трудов надсадных, но так и не оклемался -- сверхнагрузки и образ жизни,
простым смертным неведомые, доконали его.
самим итальянцам уже малодоступен, как и нам -- древнерусский. Какое
величие! Какая простота! И какой дух древности, покоя, космическая
необъятность и непостижи- мость в музыке слова! Услышать и "достукаться" до
них дано лишь природой наделенным особенным слухом, духом и еще чем-то
необъяснимым.
вальнувшись в постель, всегда пел одно и то же: "Ямщик, не гони лошадей, нам
некуда больше спешить..."
частности. Среди любимых исполнителей я назвал "пискуху", которую слышал и
слушаю давно, люблю неизменно, выражаясь по-старомодному -- трепетно.


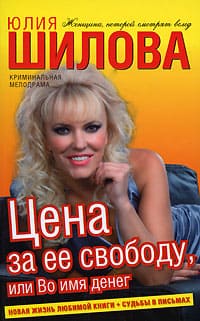
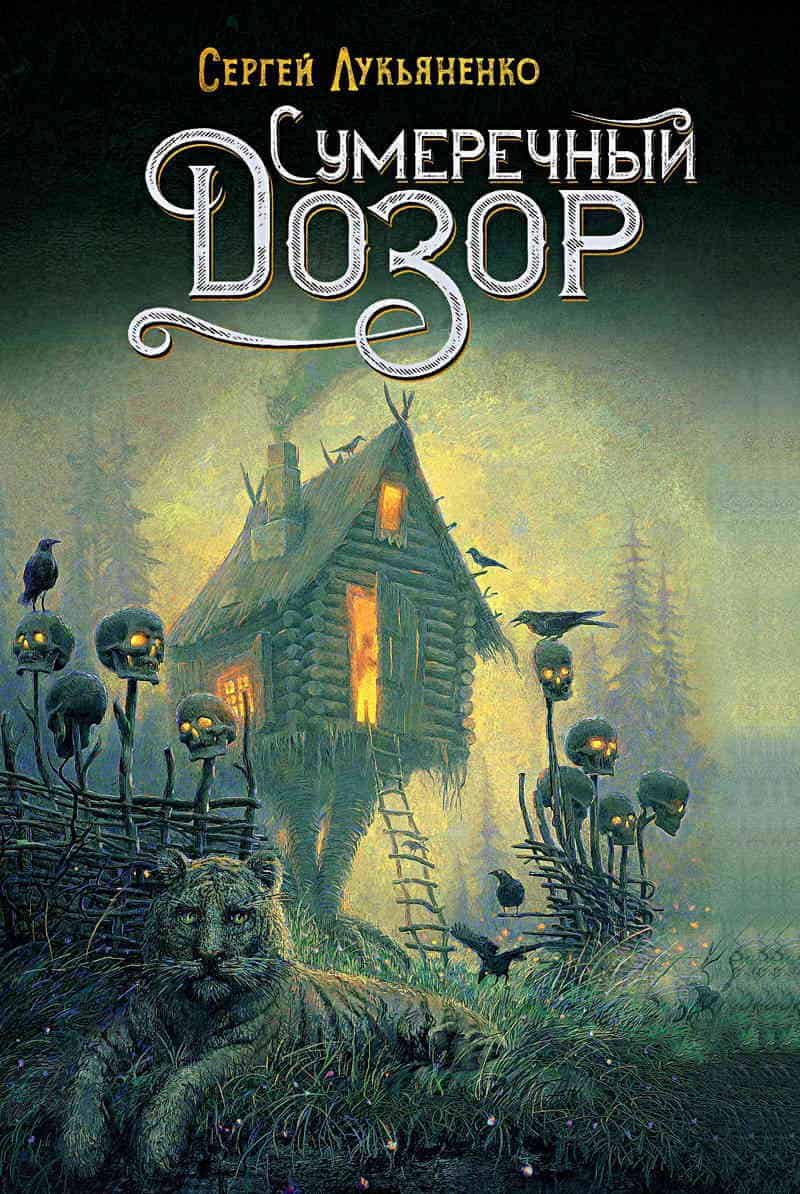
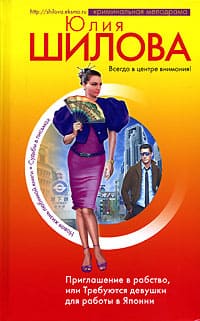

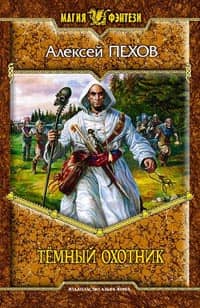 Пехов Алексей
Пехов Алексей Русанов Владислав
Русанов Владислав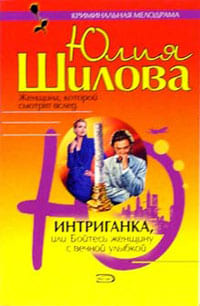 Шилова Юлия
Шилова Юлия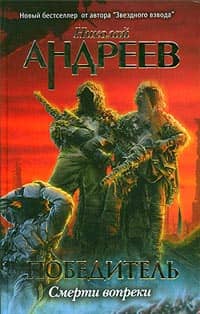 Андреев Николай
Андреев Николай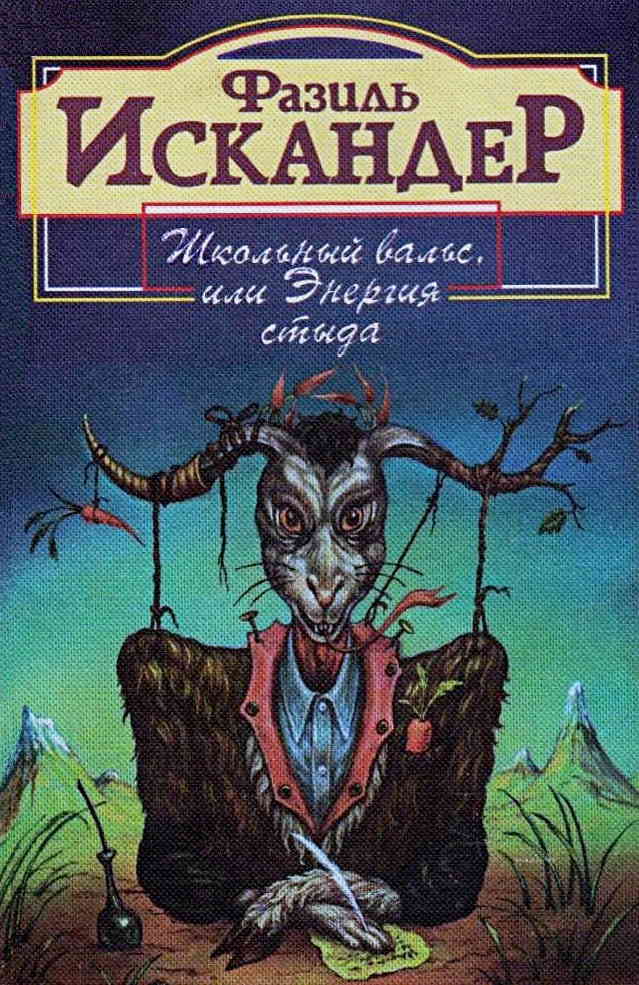 Фазиль Искандер
Фазиль Искандер Пехов Алексей
Пехов Алексей