ремонтировать станем! -- хохочут озорницы, как в молодости, и цветастой
цепочкой вытягиваются по клевеpy, роняя малиново-зеленые валы его к ногам.
тружениц с теми, кто фыркает при словах "деревня", "сарафан" и прочих
подобных вещах.
в тряпочках и поинтересовался: что, мол, опять за причуды?
дошедший до наших дней из старины: коли берут парня в солдаты, то невеста
его обряжает елочку лентами да цветными тряпочками и прибивает к мезонину
или стрехе избы суженого. Жених, вернувшись из солдат, сам уж снимает елочку
и торжественно, под радостный причет и плач женщин, несет ее в одной руке, а
другою вводит в дом невесту, которая умела ждать и была верной.
прибитая елочка, и никто ее, скорбную и укорную, не смеет снять, кроме самой
невесты.
елочки, а ленты и тряпочки выцвели, обмахрились -- не возвращаются парни в
родные села, под отеческие крыши, к верным и чистым невестам. Они оседают в
городах или на стройках, женятся на случайных спутницах и канителятся потом
с разводами, сиротя детей, тоскуя по родной земле и сожалея о легко
утраченной верной любви.
первыми холодами, листья багряные, что звезды на углах черных изб; елочки,
выскочившие на обочину опушки, будто поджидают, когда их нарядят лентами;
белый, мудро молчащий храм за холмом; пестрое стадо на зеленой отаве; конь,
запыливший телегою по ухабистой проселочной дороге; первый огонек,
затеплившийся в селе; грачиный содом на старых тополяx; крик девчоночий,
тонко прорезавший тишину деревенской улицы: "Маманя, маманя, в магазин белый
хлеб привезли!.."
прожитый день, привычные сумерки, наползающие из-за холмов, привычные дали,
объятые покоем.
потерявшей людей па войне и больше всех пострадавшей от войны, в тихом
селении, где никто и никуда не торопится, где жизнь после боев, потоков
крови, страданий и слез как бы раз и навсегда уравновесилась, стоит мечеть с
белым минаретом.
маревом, и в этом мареве молча и величественно качаются перевалы заснеженных
гор.
входит протяжный, печальный голос.
народ, бегут из школы ребятишки, а над ними, как сотню и тысячу лет назад,
разносится далекий голос. В тенистом, прохладном распадке, в глубине
боснийских гор он звучит как-то по-особенному проникновенно.
бренности нашей? О мятущейся человеческой душе?
беспредельная печаль, есть голос одинокого певца, как будто познавшего
истину бытия.
занимали эту землю; фашисты разбивали о борта машин головы детишек, а он все
так же звучал в вышине -- гортанно, протяжно, бессрастно и удаленно.
уже привычным, и неверующие здешние жители его просто не слышат и не
замечают. Но в утренний, полуденный и вечерний час заката солнца одинокий
певец посылает приветствие небу, людям, земле, проповедуя какую-то, нам уже
непонятную, утраченную истину, страдая за нас и за тех, кто был до нас,
врачуя душевные недуги спокойствием и потусторонней мудрой печалью веков,
которой как будто не коснулась ржавчина времени и страшные, бурные века
человеческой истории прошли мимо певца в толкотне и злобе.
вечно занятые люди и раздается хохот у источника "мужска вода".
причаленных белых кораблей и яхт разносилось тихое пение мандолин. Море
лениво пошевеливалось в бухте, выступы скал растворялись в сумерках, и
где-то за ними, за этими скалами, покрытыми сосняком и буйной южной
растительностью, была Италия, и когда-то, давным-давно, далматинцы плавали к
берегу италийскому -- в гости к синьорам, и так им нравилось плавать туда,
что они до сорока лет забывали жениться.
прекрасна.
море. Набережная пустеет. Все меньше и меньше людей. Тише море. Тише музыка.
И только из ресторации несется голос подгулявшего портового грузчика:
"Любова, Любова..."
ему, и ей лет по восемнадцать. Она, в желтенькой спортивной кофточке,
приникла к его плечу, волосы, желтые от света фонарей, упали ей на лицо,
заслонили глаза. Он обнял ее и нежно гладил по худенькому, еще угловатому
плечу и что-то напевал ей свое, тихо напевал, и слышала его только она.
Слышала его песню, его сердце. Ни моря, ни редких прохожих, ни музыки, ни
цвета акации, обсыпавшего их, не замечали они. Ни до кого им не было дела, и
никто не мешал им быть в одиночестве в этой густой от тепла, темной южной
ночи.
случайный спутник, возлюбленный ли, молодой ли беспечный муж или навеки
соединенный с нею друг жизни.
общем-то бросовая, но есть в ней горестная, простенькая беззащитность. Песню
эту любил покойный Василий Макарович Шукшин и начал с нее свой малоизвестный
фильм "Странные люди".
безработные, по губке, торчавшей из кармана куртки, брошенной на скамью, --
этими губками молодые ребята моют машины туристов, зарабатывая себе кусок
хлеба. Один безработный парень днем в портовой столовке зло и недоуменно
говорил нам, советским людям: "Мой папа инвалид. Его изувечили немцы, а я
мою машины немецких туристов. Это как?"
нас так, как будто мы и только мы ответственны за него и за все, что с ним
происходит,
и непонятное чувство вины, как и в разговоре с безработным, охватило меня --
безработного я накормил, дал ему десять динаров из своего небогатого
заграничного капитала, а что скажешь этим вот, чем их судьбу облегчишь, как
согреешь, когда к утру потянет с моря сыростью и холодом?
курортном городе, на крашенной в радугу скамейке, и поет он ей свою песню,
конечно, совсем не ту, что мне мнилась, но чем-то очень и очень похожую на
нее, простодушную и нелепую, как деревенская посказулька о любви,
придуманная бесхитростной деревенской головой.
молодые люди в их стране фрондируют, вызывающе ведут себя до тех пор, пока






 Белоусов Валерий
Белоусов Валерий Лукин Евгений
Лукин Евгений Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел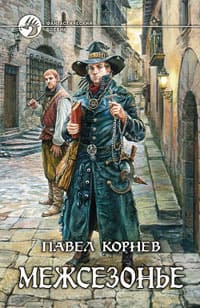 Корнев Павел
Корнев Павел Лукин Евгений
Лукин Евгений