моего тела.
Тольку на эту постель. На полу было прохладней, тянуло снегом от окна.
Поросенок проклятый все хрюкал и взвизгивал. Я вынул табуретку,
загораживавшую поросенка в запечье. Он деловито застучал копытцами по полу,
подсеменил к Тольке, бухнулся рядом с ним.
просыпаясь, справил малую нужду. На столе были порошки и навар травы. Я
напоил сонного Вовку, потом метавшуюся на жаркой печи Ларку. Ее вырвало
желтым. Я снял девочку с печи и уместил рядом с Толькой, Вовкой и
поросенком.
криков ребятишек. Что я передумал за ту длинную-длинную ночь -- мне не
передать, но с тех пор я еще больше возненавидел наших русских, бессердечных
и безответственных пьяниц, и когда их судят и садят, никакой у меня к ним
жалости нет, хотя древняя наша российская болезнь -- жалеть "бедных
арестантиков" все еще жива, и эти "бедные арестантики" надеются на нее и
шибко эксплуатируют сердобольных россиян, в особенности одиноких бабенок и
жертвенно воспитанных девиц.
Толькой, и, зевая, сказала:
одеревенела, слышу -- кричат, но очнуться не могу.
платок, читала книжку, по-старушечьи шевеля губами. А Вовка еще долго не мог
поправиться -- у него воспалились отбитые почки.
вернулся долгожданный папа. К дешевым фруктам и роскошной жизни ребят и жену
он не увез, поступил работать на кутамышевский лесоучасток киномехаником.
Потом семья куда-то переехала -- согнали, наверное, Медвидева-старшего снова
за пьянство.
я тоже давно не бывал. Слышал, что Медвидев-свекор помер, и сама Медвидиха
будто бы тоже совсем плоха, да и Зуята едва ли существуют.
из узлов. Грузовая машина переехала цыганенка. Выскочил шофер, схватил
мальчика, трясет, ахает, просит позвонить в "Скорую помощь".
притчу, как на грех (нарочно не сочинишь!), -- сынишка шофера лет
трех-четырех. Цыган вспорол ему ножом живот, выколол оба глаза, бросил на
сиденье и отправился к своей подводе.
опомнился, ринулся в кабину, догнал подводу, раздавил цыгана, жену, девочку
лет двенадцати и лошадь изувечил, осатанев.
улицу. Выхожу к реке. На льду "скорая", два парня крошат лед пешнями,
расширяют прорубь: убил кто-то кого-то и под лед засунул, в прорубь.
Маленькая толпа любопытных, состоящая в основном из пенсионеров.
Неторопливо, с перекурами долбят лед парни, ковыряется в моторе шофер,
катаются по льду на коньках ребятишки, за ними, балуясь, гоняются собаки...
осматривает памятники старины, из пединститута спешат куда-то студентки,
хохочут, на старом базаре торгуют кедровыми орехами, по три шестьдесят за
кило, семечками и цветками, привезенными с юга барыгами в чемоданах. Выбрел
на горку пьяный мужик, поглазел, пошатался, побрел дальше...
и добрых городов России.
очередное свидание к папе. Чудовищная эта привычка -- таскать детей по
больницам, тюрьмам, гулянкам еще и по сию пору сохранилась в русских
деревнях.
стоянье у каких-то глухих и здоровенных ворот, какие-то неловкие шутки
часового и злой голос человека, впускавшего людей в ворота, то запирающиеся,
то отворяющиеся со скрипом.
затхло пахнущая, угрюмая комната, разделенная на две половины решетками, меж
решеток коридор, и сидел или вроде бы ходил здесь в военной форме человек с
кобурой на боку.
терпеливо и тупо тоже ждали женщины, дети. Они вдруг оживлялись, подавались
к решеткам и, взявшись за них, громко и все разом разговаривали. Я ничего не
разобрал из тех разговоров. Наконец в пустом проеме показался низенький
человек в черной косоворотке с белыми пуговками, в долгополом мятом пиджаке,
руки его были заложены назад, он кого-то искал глазами.
звенышко решетки, взял меня подмышки и передал отцу за то же отодвинутое и
тут же задвинувшееся железо.
переданного вместе со мною. О чем говорили мать и отец -- тоже не помню. Но
что он гладил меня по голове -- помню. Я быстро утомился в душном помещении,
мне хотелось к матери, но я не просился, понимал, видно, что должен быть по
эту сторону решетки, с отцом.
будто на пристани, когда пароход уже забрал трап, начал отделяться от стены,
меж людьми образовалась пропасть, на дне которой вода, и они торопились
успеть еще сказать что-то нужное и главное. Люди просовывали руки сквозь
решетки, пытались достать друг дружку, притронуться рукой к руке. Комната
опустела, но в ней, как дым, висели духота и растерянность. Мы остались
одни, и я уж изготовился к тому, что меня передадут матери, как вдруг
охранник заявил, что я останусь здесь, в тюрьме, с отцом...
руками в решетку и задергал ее, пытаясь вырваться наружу, что и папа, и
мама, и охранник, так неловко пошутивший, меня успокаивали и не могли
успокоить. Я закатился, будто в родимце, и пришел в себя только за воротами
тюрьмы, на холоду, но долго еще вскакивал и кричал ночами...
от спертого воздуха, от горячего человеческого дыхания, оставшийся на руках,
преследует меня с тех пор, меня мутит от запаха пресного, пронзающего не
нюх, не нос, а как бы все тело и кости -- этот запах не отплюнешь, не
отмоешь, не отскребешь. И всякий раз, когда я беру потное, голое железо
голыми руками -- во мне поднимается волна, нет, туча ужаса и начинает давить
меня, слепить, глубоко погружать в беззвучие и темноту...
древнему нехитрому расчету -- в одну сторону ее движешь -- закрыто, в другую
двинешь -- открыто.
Деревенские или те, кто помнит деревню, управляются с задвижкой без мороки,
но городские и особенно технически подкованные люди, вертят эту бедную
задвижку, трясут, приподнимают, вверх и вниз ее давят -- привыкли к
сложностям современной жизни, переучились люди и такие ли хитрые запоры и
разные штуковины выдумывают, что в иных наших жилищах в ванне воду не




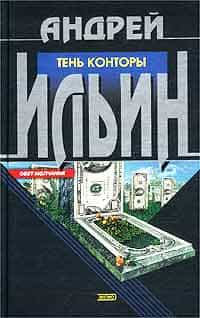

 Трубников Александр
Трубников Александр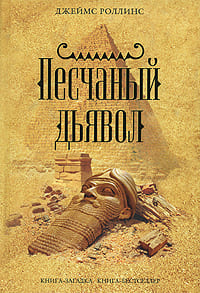 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк