забросы. Лодку кружит и медленно несет по течению. Я подматываю блесну. На
тройнике усом висит трава, блесна не играет. Отцепляю траву, замахиваюсь для
второго заброса, но слышу тихое: "Ша!"
где расходятся плавные круги.
пролетала вечером над нами. Селезень, поистративший свою весеннюю красоту и
изрядно отощавший, без всякой опаски кормится, то и дело погружая в воду
голову. А утка окунется, почавкает и тут же озирается, покрякивая. Можно
даже догадаться, о чем она говорит своему непутевому супругу. Дескать, вечно
вы, мужики, такие. Ни заботы, ни печали. Поесть, выпить да выспаться всласть
-- вот и вся ваша забота. А нам приходится крутиться как заведенным: яички
снеси, потом детишек расти, переживай за них да еще на кормежке тебя,
беспутного, карауль.
закусывать, и мы поняли это так: "Довольно тебе ворчать. Вот пила! Срок
охоты кончился, а ты все еще трусишь!" "Понадейся на тебя, так быстро в
котелок браконьеру угодишь. Он, браконьер-то, не больно сроки признает", --
отвечала рассудительная и недоверчивая утка.
ближе на куст.
действительно худой помощник и страшный эгоист. Он франт не только по виду,
но и по духу. Если уж он завел жену, то требует от нее полной и
безраздельной любви, заботы и внимания. Он даже не хочет знать никаких
родительских обязанностей. Если заметит, что утка вьет гнездо -- раскидает
его и утке трепку задаст. Вот утка и ублажает его, караулит на кормежке,
потом на ночевку определит и клювом ему все перышки переберет, весь гнус из
них вычистит и жиром смажет. А когда супруг благодушно уснет, она потихоньку
уйдет в кусты и скорее гнездо делает. Не дай Бог, если супруг обнаружит яйца
или даже утят, -- все расклюет и детей не пощадит.
селезней, а не уток. Этакому утиному "стиляге" место в похлебке.
тумана, отчетливо крякнула и побежала по воде возле стенки осоки. Селезень
бестолково огляделся и, видимо, не совсем уразумев, в чем дело, ринулся за
ней.
подкравшегося к нам из-за леса. Он густел, расходился, и вскоре на протоке
сделалось тесно от пузырьков, которые, не успев народиться, лопались и
расходились кружками. Дождь был так густ, что ветер не мог пробраться сквозь
него и сконфуженно залег в лесу.
со всех сторон покосами. Схватили рюкзаки и бросились к пихтам. Под ними
лежала рыжая сухая трава. Дождь сюда не проникал. Но мы уже вымокли и
продрогли. Не хотелось шевелиться. Однако надо было разводить костер. И с
великим трудом мы его развели.
одну минуту стало темно. Затем дождь разом прекратился. И тут же порывы
ветра понеслись по реке, морща и волнуя воду. Сверкнула нервная молния,
прогрохотал гром, и ветер опять сник.
шлепались о широкие, сморщенные листья чемерицы, уже пустившей по четвертому
побегу, да с той стороны реки доносилось тревожное блеяние коз, пасшихся по
лесу.
втыкались в вершины гор, то отчетливо видных, то исчезавших во мраке. Гром
грохотал почти беспрерывно.
дождь, сама же, громыхая в отблесках молний, поплыла дальше, волоча за собой
пушистый, раздвоенный хвост. Этот хвост чисто смел все на своем пути. Снова
появилось голубое небо с умытым и довольным ликом солнца.
нас побежала шустрая мышка. Туча была далеко. Она уползала за перевалы и все
еще метала яркие стрелы, но звуки грома до нас уже не доносились.
зелени, еще по берегам щетинится густая осока, на прибрежных озерах не
закрылись зеленые ладошки кувшинок, еще вчера тянулась длинными нитями в
воздухе паутина -- и на тебе -- снег!
мелькают блики зелени. А вон впереди, в неподвижном белом царстве заполыхали
огоньки. Подходим ближе и видим запламеневшую рябину. Пугливое дерево --
рябина, оно раньше других почувствовало приближение снега и поспешило
окраситься осенним цветом. С грустным шорохом опадают багровые розетки с
рябин и одиноко, печально светятся на белом, но еще не ослепительном снегу.
Холода-то настоящего еще нет, и снег не серебрится.
лес, небо, хмурое небо в мохнатых тучах, меж которыми лишь кое-где видна
бледная просинь. Па берегах бело, и оттого река кажется темной,
неприветливой. Тени скал в ней не отражаются, как летом.
на голые обмыски, прячут головы под крыло.
и мягких лап пихтача падает густая громкая капель. Весь лес заполнен
шорохом, щелком и треском.
увидеть только в лесу и только после ранней выпадки снега. И еще такие
звезды можно увидеть в мороз на окне, сказочные звезды папоротника, только
звезды те меньше и белые они.
приклеил их к земле. Распростерлись зубчатые, огромные звезды таинственного,
сказочного папоротника. Я как-то слышал, еще в детстве: если найти цвет
папоротника и взять в руку -- станешь невидимкой. Сейчас, глядя на волшебные
звезды, я верю этому. Я верю всему, что связано с лесом.
Не колесом, а плугом вроде бы ездили здесь, вроде бы воры-скокари ворвались
в чужой дом среди ночи и все в нем вверх дном перевернули. И все-таки лес
жил и силился затянуть травой, заклеить пластырем мхов, припорошить прелью
рыжих гнилушек, засыпать моросью ягод, прикрыть шляпками грибов ушибы и
раны, хотя и такой могучей природе, как сибирская, самоисцеление дается все
труднее и труднее. Редко перекликались птицы, лениво голосили грибники, вяло
и бесцельно кружился вверху чеглок. Двое пьяных парней, надсажая мотор, с
ревом пронеслись мимо меня на мотоцикле, упали по скользкому спуску в ложок,
ушиблись, повредили мотоцикл, но хохотали, чему-то радуясь. Всюду по лесу
чадили костры и возле них валялись наехавшие из города труженики. Была
середина воскресного дня. Разгоняя гиподинамию, горожане рубили, пилили,
ломали, поджигали лес, притомились уже и загорали под солнцем, с утра
скрывшимся за такой громадой туч, что казалось, и месяц, и год не
выпростаться ему оттуда. Но совсем легко, как бы играючи, солнце продрало
небесное хламье -- и скоро ничего на небе не осталось, кроме довольного
собою, даже самодовольно бодрого светила.
черно-пегая береза, вся прошитая солнцем, трепещущая от тепла, истомы и
легкого, освежающего дуновения, происходящего в кроне, наверное, это и было
дыханием самой кроны. Горькой струей сквозящую печаль донесло до меня -- так
может пахнуть только увядающее дерево, и не слухом, не зрением, а каким-то,




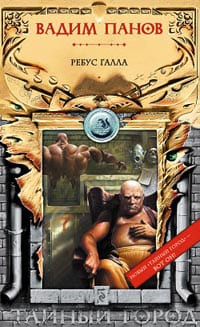

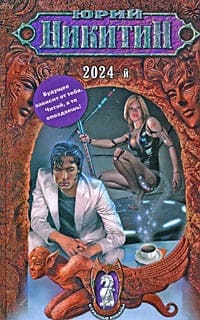 Никитин Юрий
Никитин Юрий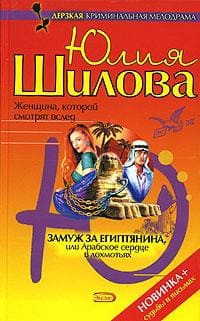 Шилова Юлия
Шилова Юлия Круз Андрей
Круз Андрей Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Лондон Джек
Лондон Джек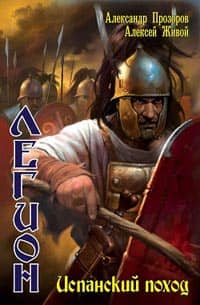 Прозоров Александр
Прозоров Александр