"богоискателями" и "богостроителями". У него образовалось нечто вроде личной
вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого
подозревал в "поповщине". Выражал надежду, что Горький исправится под
влиянием своей жены: "Она, чай, не за бога, а?"
политикой. "Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу
объединения у с.-д. под названием "буря в стакане воды" и что сей водевиль
дают здесь на днях в одной из (падких на сенсации) групп эмигрантской
колонии. Сидеть в гуще этого "анекдотического", этой склоки и скандала,
маеты и "накипи" тошно; наблюдать всЈ это -- тоже тошно. Но непозволительно
давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее,
чем была до революции. Эмигрантщина и склока 310 неразрывны. Но склока
отпадет; склока остается на 9/10 за границей; склока, это аксессуар. А
развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все
дьявольские трудности теперешнего положения", -- писал он из Парижа за год
до школы в Лонжюмо.
в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли
Ленину было тошно от нее, от маеты и накипи: он всЈ это любил, это было
издавна частью его жизни. И не так уж быстро шло тогда вперед развитие
партии и социал-демократического движения. Скорее было верно обратное, и он
не мог этого не видеть. "Интеллигенция бежит из партии. Туда и дорога этой
сволочи", -- писал он.
лично, ни (что было для него всегда гораздо важнее) у Центрального Комитета.
Савва Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только
не находил денег, но и не искал их. "Это мастер посулы давать и очки
втирать", -- говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце.
частичные провалы при размене денег в европейских банках, от большой суммы,
похищенной при тифлисской экспроприации, немало осталось в кассе
Центрального Комитета. Повидимому, тысяч 80 или 85 попало к Богдановской
группе "Вперед". Ленин называл людей этой группы "жуликами" и
бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч -- "от эксов".
обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую
сумму взаймы с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин
давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования
"ростовщичеством". Долг был возвращен после октябрьской революции, да и то
не сразу после нее, а в 1922-ом году. 311
готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеалиризовал.
Называл лучшего из двух "сутенером". Но, повидимому, надеялся, что они хоть
часть приданого отдадут партии. Действительно "сутенер" отдал больше двухсот
тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень
щедро: получил какую-то незначительную должность, работал при французских
коммунистах в России -- официально переводчиком, а по уверению одного из
них, наблюдателем из Ч. К. С другим женихом вышло гораздо хуже. Он уехал с
молодой женой в Париж, там "буржуазно переродился", и убедил жену, что
передавать партии наследство ее брата незачем. Ему грозили убийством,
говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на
"суд чести", с тем, чтобы судьями были люди из других партий или же
беспартийные. Этот "суд чести" состоялся; львиная доля приданого осталась за
молодоженом, но всЈ же и от него кое-что перепало в партийную кассу.
отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные
журнальчики стали платить гонорары. Однако, требования с разных сторон шли
немалые. Они иногда раздражали Ленина. Троцкий "хочет устроить на наш счет,
негодяй, всю теплую компанийку "Правды"!" -- сердито писал он в редакцию
газеты "Социал-Демократ".
волнения. "Что студентов начали бить, это, по моему, утешительно", --
говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Плеханов, тактику которого он теперь
считал "верхом пошлости и низости" был тоже раздражен чрезмерным
восхвалением Толстого (хотя оба были поклонниками). Появилась и надежда на
новый союз с Плехановым. "Будем мы сильны -- все придут к нам".
светом. Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не
312 понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение
к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел.
медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в Национальную Библиотеку или по
другим делам, на велосипеде. В Лонжюмо был и дамский велосипед, но Инессе
Арманд было совестно им пользоваться: он принадлежал Крупской. Два раза в
неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников.
Летом, вдвоем, сидя на траве, они обсуждали подготовлявшуюся Каменевым
грозную брошюру против меньшевиков: "Две партии". Ленин хохотал при удачных
полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупская участия
в этой работе не принимала. Не приходила и Инесса: это было бы тоже неловко,
да она всЈ-таки еще недостаточно разбиралась в такой работе; привыкла с
ранней юности к другим книгам. Ленин всЈ ей рассказывал, когда, после
скудного обеда в столовке Кати Бароновой, Крупская с матерью возвращались к
себе. За столом, строго-печальное выражение на лице тещи, взгляды,
бросающиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у
французского рабочего обе женщины, верно, плакали: кто мог бы такое
предвидеть?
рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент, Малиновский, шпион
Департамента полиции, пел "Дубинушку". Ленин и все другие подтягивали. За
забором не без удовольствия слушали соседи-французы. Немногочисленные
музыканты местечка имели, конечно, партитуру "Le Postillon de Longjumeau".
Рабочий разучил знаменитые куплеты. Инесса Арманд смущенно пела: "Depuis ce
temps dans le village -- On n'entend plus parler de lui..." Слова понимали
только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала
печальные взгляды.
ресторан, посещавшийся 313 преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида
он был несколько дороже кофеен на главной улице, и русские эмигранты
заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда
поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал,
что-то писал на бумажке или на полях какой-либо брошюры. Столик занимал
долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемый, и таким образом
был средний клиент, не очень хороший и не плохой.
сторонам. Ему очень хотелось как-нибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз
заглянул в карту и вздохнул: меньше семи, а то и восьми франков истратить
нельзя, -- баловство.
весел, шутил, писал ей стишки, с рифмами: "ножка", "немножко", "розы",
"морозы". Она изумлялась: Ильич и чуть ли не по старинному -- мадригалы!
Часто уславливался с ней наперед: сегодня о партийных делах не
разговаривать. Тем не менее говорил, -- без них долго обойтись не мог.
Говорил и о Карле Марксе, книги которого читал чуть ли не каждый день,
находя в них всЈ новые глубины. Инесса тотчас скисала, но старалась
поддерживать разговор:
морального элемента. -- Она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь
такие ученые слова.
подучить".
идеалу. Разве вы этого не думаете? -- ВсЈ еще не решалась называть его на
ты.
у тебя буржуазная манерочка выражаться.
кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые... 314
изложит, стишок приведет, и цитатку запустит, хоть не поручусь, что не им
самим изобретенную.
знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит, и я...
Провались они в тартарары лучшие элементы буржуазии вкупе с худшими! --
перебил он ее еще сердитее. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянул
вперед руку и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него
изменилось и побледнело. Инесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил
долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших
партийных собраниях, и всЈ не могла понять, какой он оратор. Троцкий,
например, был признанным "оратором Божьей милостью", -- в Петербурге его все
так называли; это было как бы даже оффициальное его наименованье.
Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не
обозначал. Ей казалось, что он обычно десять раз говорит одно и то же, как
молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и
непонятливых. Но иногда, если его прерывали "возгласами с мест", он вдруг
обрушивался на своих противников и тогда говорил так, как Троцкий и
Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным, -- страшным




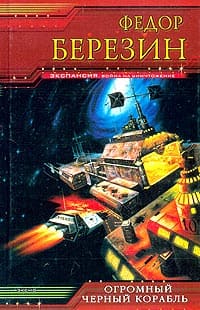

 Панов Вадим
Панов Вадим Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий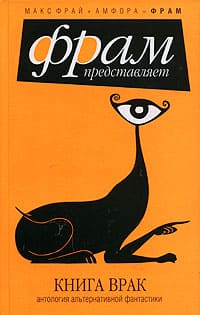 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Флинт Эрик
Флинт Эрик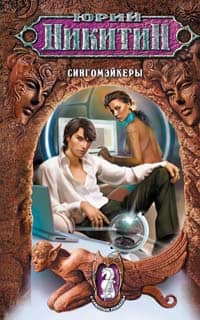 Никитин Юрий
Никитин Юрий