монархи и их министры "доставили нам сие удовольствие". Никогда еще надежда
на социальную революцию не была такой настоящей, как теперь. Революция стала
даже почти неизбежной, а она делала почти неизбежным его приход к власти.
Правда, было это вечное, несчастное "почти" исторических процессов. Но
социологические законы Карла Маркса, притом именно в его толковании, были,
разумеется, верными без "почти". Если он в них когда-либо хоть немного
усомнился, то разве лишь в 386 самом конце своей жизни. До того они были
совершенно незыблемой, вечной истиной; иначе и жить ему не стоило бы.
Европейская война внесла в жизнь такую необычайность, какой в истории
никогда до того не было. Этой ее особенности -- просто по исторической
симметрии, -- должна была бы соответствовать и необычайность революционного
действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в
Лозанне, в Цюрихе (всЈ переезжал) лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в
Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то
выступал перед аудиториями, в несколько десятков человек. Теперь и это было
труднее, чем прежде: полицейская слежка везде была сильнее, письма
вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И, главное, всЈ
то же: не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были.
легального издания какую-то брошюру: "В силу военного времени я крайне
нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит
Вас чересчур, ускорить издание брошюры". Вскоре затем известил Инессу
Арманд: "Рукопись моя об империализме дошла до Питера, и вот пишут сегодня,
что издатель (и это Горький! о, теленок!) недоволен резкостями против...
кого бы Вы думали?.. Каутского! Хочет списаться со мной!!! И смешно, и
обидно. Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой -- против
политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893 года. И
ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я всЈ же не променял бы сей судьбы на
"мир" с пошляками".
никаких денег ждать не мог: "О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе
прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем". --
Вероятно говорил правду. Но вместе с тем он и теперь что-то печатал, что-то
пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольничьих на жизнь:
рублей по 30 или 50 в месяц. 387
сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии
оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он
ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго
Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался.
Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше
шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так
революции и не дождавшись!
переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему
всЈ противнее, -- почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти
он целиком перевез в Россию в 1917 году.
будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших
казнями. То же самое когда-то говорили, и продолжают писать по сей день, о
Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина
или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на "гуманизм", на
котором в молодости "воспитались" (то есть, часто о нем читали и болтали).
Но это были исключительные случаи (не более частые, чем такие же, например,
у Стеньки Разина). Чаще они прикрикивали на сподручных за
"снисходительность". Так, в июне 1918 года Ленин продиктовал следующее
письмо Зиновьеву ("Также Лашевичу и другим членам ЦК"):
хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы
лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.
Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную
инициативу масс, вполне правильную.
поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и
особенно в Питере, пример которого решает.
было бы не-воз-мож-но, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь!
кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений, в примечании к этому его
письму, кратко и деловито добавляет: "За белый террор против большевиков по
инициативе рабочих масс эсеры были подвергнуты красному террору и
разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах центральной России".
Часть седьмая
восторгом: отцы и деды мечтали, наконец сбылось! Простой же народ
обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне.
совершенно иначе: "Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел
конец немецким влияниям и придворным интригам!" Скоро, однако, о войне
вообще стали говорить меньше и начинали чтение газет не с сообщений ставки,
а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили: "Хоть бы
поскорее кончилась эта проклятая, никому ненужная война!" Временным
правительством в первые дни все очень восхищались. И только профессор
Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде
рассказывал о царских.
говорил он. -- Даже читать приятно, хотя и скучновато. Ни одного
"небезызвестного"! Прежде, если в газетах кого-нибудь называли
"небезызвестным", то все понимали: значит, прохвост. 389
люди и работают двадцать часов в сутки!
человеку и поспать и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по
поводу обедов: вчера в "Праге" подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь
еще недавно "море ядения и озеро пития разливашеся".
Правительство в этом не виновато.
виноват. И еще кстати: позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит:
теперь свобода.
рублей восемь в месяц, -- пошутила Татьяна Михайловна. -- У нас никто
расчета не потребовал. А если потребует, то опять-таки князь Львов в этом
неповинен.
все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают
кандидатуру в Учредительное Собрание.
Учредительное Собрание без затруднений, если примкнет к партии
социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и
знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел; подумал, что'
сказали бы в "Русских Ведомостях", и остался "левее кадет". Зато совершенно
искренне принял формулу "без аннексий и контрибуций".
отвыкли. Теперь трудно было уехать и в Крым или на Кавказ, да и не очень
хотелось. В начале лета они отправились, без особенных дел, в Петербург
(который никогда не называли Петроградом; очень не одобряли эту перемену).
Туда ездили все их друзья и тоже без особенных дел. Надо было "потолковать с
Временным Правительством". Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы
стать товарищем 390 министра; для участия в правительстве позиция "левее
кадет" была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно
против этого: здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя
правительственную деятельность. -- "Пусть они работают двадцать часов в
сутки, и, конечно, спасибо им, но ты, Митя, не можешь. Помни, что сказал
Плетнев".
Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он
ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех
удивило: повидимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно, но
руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его
наблюдениям, велась плохо. "Что же они могут сделать в этом хаосе, даже если
б они были гениями? А я во всяком случае не гений. И лебезить перед Советом
я не мог бы. Не мог бы и сидеть между двух стульев", -- думал он. Без
восторга согласился баллотироваться в Учредительное Собрание, если его
включат в список как беспартийного левого.
пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет
отвратительный.
царского гнета и благоденствует благодаря дорогим нам всем князю Львову,
Керенскому, Нахамкесу и совету рабочих и собачьих депутатов! -- кричал он в



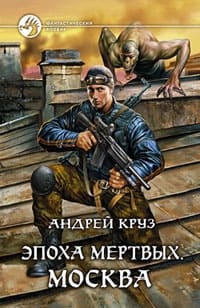


 Каменистый Артем
Каменистый Артем Курылев Олег
Курылев Олег Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей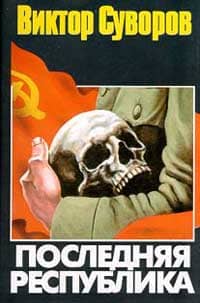 Суворов Виктор
Суворов Виктор Контровский Владимир
Контровский Владимир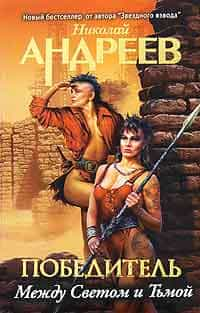 Андреев Николай
Андреев Николай