большевиков ("или они это выпустили?"). По его мнению, не надо было верить
тому, что многие пишут о русских событиях: если жестокости и были, то ведь
нужно принять во внимание то-то и то-то, -- далее следовали разные общие
места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также на
какую-то неопределенную 445 гармонию, которая непременно должна установиться
в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет
ее устанавливать.
Анатольевич. -- "У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа всЈ банально по
реакционному, а у него всЈ банально по радикальному: и эти лицемерные "если"
-- он, видите ли, не знает! -- и эти весьма односторонние умолчания, и этот
"гигантский социальный опыт". Едва ли господам из "Берлинер Тагеблатт"-ов
очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделали над ними, но в
варварской России отчего же нет, это очень интересно! Тут и русская история,
о которой и сам Эйнштейн, и люди из "Берлинер-Тагеблатт"-ов в лучшем случае
когда-то прочли страничек десять в школьных учебниках. Хороша и его
радикальная гармония, очевидно, без реакционеров, но -- тоже очевидно, хотя
и недосказано -- вкупе с большевиками! И вся эта глупая слащавая фальшь! Да
и его, Эйнштейна, туда втянули". Ласточкин не мог сказать себе в утешение,
что Эйнштейн, верно, глуп. Знал, что ум -- неопределенное понятие, знал
также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений.
"Во всяком случае он становится вдвойне символической фигурой нашего
времени. Своим гением поколебал прочные устои знания, своей безответственной
болтовней дал слащавую санкцию "Берлинер-Тагеблатт"-ам".
больше не был ни в чем. "Говорю о чужих банальностях, а наши собственные? Я
почти ни от чего не отказываюсь ни в нашем духовном наследстве, ни в своих
личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и всЈ-же большого,
основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки, в какой-то мере мы,
быть может, отвечаем морально и за "разбойника" Люды (хотя почему же я за
него отвечаю?). Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал
Савва Морозов (я им никогда не давал). Быть может, у нас была и своя
слащавая фальшь, даже наверное была, всЈ-таки гораздо более честная и
бескорыстная. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и
Людендорфов. И основная наша 446 ценность -- свобода -- никак не была
ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь
от "дважды два четыре"! Настала катастрофа, нам больше как будто не на что
надеяться, и всЈ-же я думаю, что наше поколение было только несчастно".
керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в
очках: он с позапрошлого года, она с прошлого стали (с тяжелым чувством)
носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше
обычного, положила на столик и задумалась: "Зимой топить будет нечем. На
жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. Они кончатся? Только на это и
надежда, но до того, как кончатся они, кончимся мы, если не физически, то
морально. Митя к ним не пойдет, но что же он будет делать?" -- Думала "он" в
единственном числе: смутно чувствовала, что зимы не переживет, -- здоровье у
нее всЈ расстраивалось, она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем
прежде, скрывала болезнь от мужа. "Для покупки дров продадим Крамского.
Рискованно, но что-ж делать? Верно дадут гроши". Теперь, впервые в ее жизни,
денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. --
"Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы
спокойнее... Но где она теперь? Жива ли?"
кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да еще на стене
висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. ВсЈ
остальное было продано. Вселенные жильцы не доносили. Был продан за бесценок
и Левитановский пейзаж (на четыреугольник, оставшийся от него на обоях, им
было особенно тяжело смотреть). Продавать принадлежавшие народу произведения
искусства было прямо опасно. Однако, жильцы и об этом не донесли. Их было
пятеро: муж, жена, три сына подростка. Им вначале предоставили всю квартиру,
кроме двух оставленных хозяевам комнат; можно было ждать, что вселят
кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем
теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы
не 447 развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не
следили за каждым движеньем "буржуев". "Право, недурные люди! -- говорив
Дмитрий Анатольевич. -- Он, оказывается, с 1905 года "член партии": они ведь
не говорят: "большевицкой партии", а просто: "партии". Ничего, проживем и с
ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика XVI в
Тампльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не
было ни гроша".
скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую
когда-то обставила Нина. Повидимому, их прельстила круглая форма этой
комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шелком. Но
проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно
доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить,
назвала их товарищами и просила шуметь меньше: ее муж нездоров и должен
готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми убедительными
интонациями и ничего не добилась.
Петя.
"меньшевицкой лахудры". На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум в
мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре
мужу не сказала, -- "что мог бы он сделать?"
работали не в Кремле и, повидимому, не на высоких должностях, хотя муж
участвовал еще в 1905-ом году в московском восстании. Уходили на службу с
утра, гостей принимали не часто и жили небогато. Но съестные припасы у них
были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась
не смотреть на то, что там жарилось и варилось; ей казалось, что жилица
чувствует себя смущенной. 448
и не спорили. Играть всЈ равно было трудно, а продать рояль невозможно. В
этот день жилица, предварительно постучав в дверь, вошла к Татьяне
Михайловне и нерешительно попросила ее продать ей "лишнее" платье и белье.
Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга: жилица предложила
значительно больше, чем давали старьевщики. Выйдя к себе с покупкой, она
тотчас вернулась и принесла полфунта кофе: "Возьмите, гражданка, это
бесплатно. У нас есть". Татьяна Михайловна приняла подарок, очень
благодарила -- "муж так обрадуется", -- и потом прослезилась. Стала слаба на
слезы.
в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого двенадцати лет
отроду: "Покойная мама подарила, когда я болел корью. Двенадцати лет начал
и, когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на "одр" то же самое". За
этой книгой он часто засыпал; мысли его приятно смешивались. "Как хорошо,
что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно
совершенное!"... Но в этот вечер он заснуть не мог.
было ужасно, а всЈ-таки люди тогда были культурнее, чем мы! Толстой сам на
старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и
образования гораздо больше, чем в двадцатом веке. А это было до большевиков.
ответила Татьяна Михайловна. -- А вот у них растет действительно редкое
поколение. Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани!
князя Андрея в Отрадное, с знаменитой страницей о старом дубе. "Весна, и
любовь, и счастие!" как будто говорил этот дуб, -- "и как не надоест вам всЈ
один и тот же глупый и бессмысленный обман. ВсЈ одно и то же, и всЈ обман!
Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные
мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил 449 свои обломанные,
ободранные пальцы, где ни выросли они -- из спины, из боков; как выросли --
так и стою и не верю вашим надеждам и обманам"...
Анатольевич. -- "Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все
имеем. Да, я тоже никаким надеждам больше не могу верить". Точно, чтобы
самого себя опровергнуть, Ласточкин повернул несколько страниц в знакомой
ему чуть не наизусть книге и прочел о возродившемся, преображенном дубе:
обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время
вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо
жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь,
и луна, -- всЈ это вдруг вспомнилось ему".
вдруг с сильным волненьем подумал Дмитрий Анатольевич, никогда прежде не
замечавший этих слов. "Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то
же самое есть в другой главе: Пьер, вернувшись из плена, с радостью думает,
что жены больше нет в живых! Что же это такое? Значит, не всегда худо, что
человек умирает?" Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать.
Татьяна Михайловна уже задремала; лицо у нее при свете керосиновой лампы
казалось вместе измученным и просветленным, -- мертвым.
Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на
три четверти. Новые студенты и по наслышке мало знали Ласточкина, но обычно


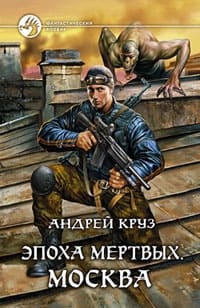



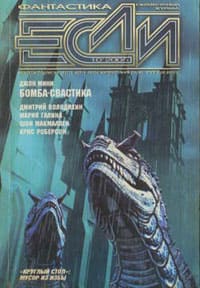 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия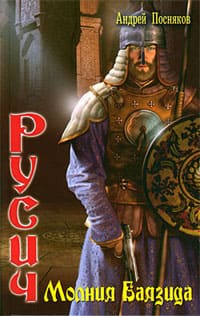 Посняков Андрей
Посняков Андрей Флинт Эрик
Флинт Эрик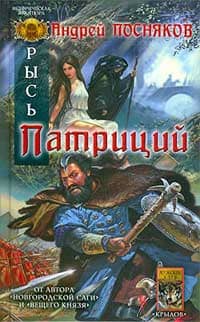 Посняков Андрей
Посняков Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр