больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все
пациенты жили искусственной, временной жизнью. В определенные часы приходили
врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, давали лекарства, делали
впрыскиванья. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного
врача. Он тотчас делал необходимое и действовал одним своим успокоительным
видом. В определенные часы приносилась больничная еда, о ней заботиться не
приходилось, и она была всЈ же несколько лучше той, которую можно было
достать дома. -- Теперь была окончательная жизнь, и всЈ лежало на Татьяне
Михайловне.
сидела так же при муже. По прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно
и то же: -- "Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька, поправляется
богдыхан! Ведь и болей больше почти нет"... Просил не беспокоиться о
деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской
пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну
лекцию. ВсЈ же Травников немного надеялся, что могут, в виду исключительных
обстоятельств, дать единовременное пособие и искал хода к народному
комиссару. Татьяне Михайловне ничего об этом не говорил. Провожая его в
переднюю, она благодарила, иногда со слезами:
забуду!
жить".
великим достоинством". Это до него доходило. "Да, крест", -- думал он. --
"Но откуда же 490 взяться великому достоинству? Живу милостыней... А эти
грязные ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях!"...
Теперь и жизнь после октябрьской революции, его прогулки по старой Москве,
всЈ казалось ему чуть не раем.
сотую ее долю", -- думал Дмитрий Анатольевич. Устало проверил: "Да,
приблизительно одну сотую... Едва ли было когда-либо поколение, подобное
нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Виноваты? Да, вероятно, но в
чем? И что же я и лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не
делал зла, по крайней мере умышленно или хотя бы только сознательно. Работал
всю жизнь много, помогал работать и жить другим, старался приносить пользу
России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала
лишь под конец. До того и я, и Таня были счастливы, на редкость счастливы.
Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны, но не
все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи,
миллионы людей хуже, чем был я, неизмеримо хуже, чем Таня".
ядом материализма. "Что же делать, как они ни гнусны, но кое-что у них
правильно, по крайней мере в отрицательной части их ученья. Как можно было
бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя: не
"испытанием" же! А с точки зрения нашего учения? Какое же было наше ученье?
Лавров, Михайловский, Плеханов, Милюков? Ведь со всеми различиями между
ними, они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего
случая не предвидит и к нему не относится. Большевики, по крайней мере,
откровенно думают: личность не имеет значения, пропал человек, ну и пропал,
какое кому дело? И так оно и есть: никому, кроме Тани, до меня никакого дела
нет. И даже Травников уже, вероятно, немного нами тяготится и в душе,
бессознательно, желает, чтобы я 491 умер поскорее, а то слишком много
забот... Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват,
если этот яд уже проникает в мою душу, как верно проникает в душу всех.
Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции, о
войсках Гинденбурга в Москве? Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог
бы... И никакой свободный строй... Но всЈ-таки вдруг всЈ-таки есть загробная
жизнь? Ах, дай-то Бог!!! И как же я об этом, о самом главном думаю так
мало!"
смертельно раненые в сраженья, думают необычайно напряженно, в какую-нибудь
одну минуту вспоминают всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было.
Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике как будто
на мгновенье пришел в себя, как будто даже узнал Скоблина, и скользнула
мысль: "Хорошо, что он здесь.... Кажется, со мной несчастье... Где же
Таня?"... Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. "Не операция ли!"...
Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме
этого серого потолка с люстрой, с режущим глаза светом. Показалась рука в
белом рукаве. "Анестезист!" И всЈ померкло. Он пришел в себя лишь в
маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что никаких воспоминаний о
жизни, никаких важных мыслей, ни даже желанья что-то вспоминать, о чем-то
думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после
ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой, обрубком.
будущем. "Если в самом деле есть будущее? Ведь в это твердо верят миллионы
людей!<"> Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он
догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи.
Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причинило еще
новую душевную боль. Представил себе, как ходит по знакомым Травников, как
некоторые дают, другие отказывают, быть может ищут предлога для 492 отказа:
"У меня, к несчастью, у самого сейчас очень мало"... "Я сердечно сочувствую,
они хорошие люди, но кругом так много горя, а я ведь их и мало знал".
Особенно больно ему было за жену: "И через это прошла!"...
он себе, не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену. Не хотел сказать ей,
-- "может, она не догадывается?" Если она прежде и не догадывалась, то
теперь точно прочла его мысли, по той же всЈ усиливавшейся между ними
телепатии. И он прочел ее слова, почти такие же: "Сколько ты сделал для
других! Чем мы лучше? И мы всЈ отдадим, когда падут большевики". Он теперь
твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до
будущей недели: беспрестанно думал, что нельзя откладывать дело: "Чем
скорее, тем лучше и легче". И еще подумал: "Мы не отдадим, но Аркаша отдаст.
И действительно теперь это уже и не важно".
этом жене, та отнеслась к его решенью иронически:
нам купить на кладбище. Это многие делают.
она продолжала шутить:
денег. Только я завещаний составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в
свою пользу. Так и быть, всЈ отдам тебе, а не душке-Собинову и не
футуристам.
сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель.
на много старше вас. Помню, что 493 мне говорил мой знаменитый коллега,
покойный Спасович: "Я понимаю, что можно без завещания умереть, но не
понимаю, как можно без него жить", -- смеясь, сказал Розенфельд.
тогда всЈ достанется? Моей жене?
Московским Университетом, Техническим училищем и Академией наук, две трети
завещал жене: она всЈ завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два
места.
только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано
действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю.
Просил его "когда будет можно", уплатить его долги, о которых ему скажет
профессор Травников, -- знал, что его воля, при безукоризненной честности
Аркадия Васильевича, будет непременно исполнена.
подарок и дорогой: кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно
пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками: не хотела
оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо. Тот смущенно
увидел упоминание о долгах и что-то, растерявшись, пробормотал.
выхлопочу. -- сказал он и пожалел, что сказал. -- Пенсию от Университета, --
поспешно добавил он. Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось: "Получать
и от них милостыню!" Он ничего не ответил.
книг... Из университетской библиотеки?
прочли? 494
это было некоторым преувеличением. "И перед... этим... не вся правда".
Кое-как объяснил, что хотел бы теперь прочесть лучшие философские книги о
смерти.





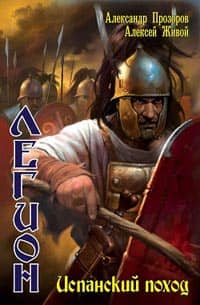
 Круз Андрей
Круз Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Контровский Владимир
Контровский Владимир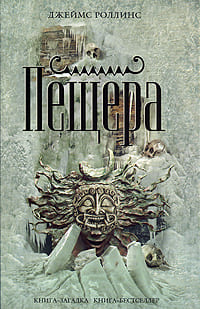 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей