отрядом и Сеславин. Оба партизана бросились с двух сторон на
Ошмяны. Итальянский конвой был захвачен. Фигнер узнал о смерти
Крама. Ругаясь, кусая себе руки и проклиная неудачу, он решил тут
же перестрелять арестованных. Сеславин воспротивился, говоря, что
выгоднее всех взять в плен и от них доведаться о дальнейших
намерениях неприятеля.
- Ну и возись с ними, пока на тебя же не наскочат другие, -
сказал Фигнер. - Ох, уж эти неженки, идеологи!
- Да чем же идеологи? - спросил, вспыхнув, Сеславин. - Вам бы все
крови.
- А вам сидеть бы только в кабинете да составлять сладкие и
чувствительные законы, - кричал Фигнер, - а эти законы первый
ловкий разбойник бросит после вас в печь!
Сеславии стал было снова возражать, но раздосадованный Фигнер, не
слушая его, крикнул своей команде строиться, сел на коня и
поскакал за город. вперерез по Виленской дороге. Сеславин
освободил корчмаря, разыскал помощника бургомистра и, пока его
команда, развьючив лошадей, кормила их и наскоро сама закусывала,
распорядился похоронами убитых.
- Слышал? - спросил адъютант Сеславина пожилой, с седыми усами,
гусарский ротмистр, выйдя из постоялого, где закусывали остальные
офицеры.
- Что такое?
- Убитый-то ординарец Фигнера, ну, этот юнкер Крам, как его
звали, ведь оказался женщиной!
- Что ты? - удивился адъютант.
- Ей-богу. Синтянину первому сказали, а он - Александру Никитичу.
Адъютант Сеславина, Квашнин, месяц тому назад, под Красным,
поступивший в партизаны, обомлел при этих словах. "Крам,
Крамалина! Ясно как день! - сказал себе Квашнин. - И я не
догадался ранее!" Ему вспомнилось, как он, в вечер вступления
французов в Москву, обещал Перовскому отыскать дом его невесты,
Крамалиной, как он его нашел и получил от дворника записку этой
девушки и, с целью отдать ее при первой встрече Перовскому, не
расставался с нею. Пораженный услышанною вестью, он без памяти
бросился в избу, куда между тем, в ожидании погребения, перенесли
убитых.
- Да-с, господа, женщина, и притом такая героиня! - произнес,
стоя у тела Авроры, Сеславин. - Теперь она покойница, тайны нет.
Ее жизнь, как говорят, роман... когда-нибудь он раскроется. А
пока на ней найден вот этот, с портретом, медальон. Вероятно,
изображение ее милого.
Офицеры стали рассматривать портрет.
- Боже! так и есть.. это Василий Перовский! - вскрикнул,
вглядываясь в портрет, Квашнин.
- Какой Перовский? - спросил Сеславии.
- Бывший, как и я вначале, адъютант Милорадовича; мы с ним от
Бородина шли вплоть до Москвы... он на прощанье поведал мне о
своей страсти.
- Так вы его знаете?
- Как не знать!
- Где же он?
- Попал, очевидно, как и я в то время, в плен, а жив ли и где
именно - неизвестно.
- Ну, так как вы его знаете, - сказал Сеславин, - вот вам этот
медальон, сохраните его. Если Перовский жив и вы когда-нибудь
увидите его, отдайте ему... А теперь, господа, на коней и в путь.
Партизанский отряд Сеславина двинулся также по Виленской дороге.
Квашнин при отъезде отрезал у Авроры прядь волос и, отирая слезы,
спрятал их с медальоном за лацкан мундира. "Какое совпадение! Так
вот где ей пришлось кончить жизнь! - мыслил он, миновав Ошмяны и
снова с отрядом въезжая в придорожный лес. - Думал ли Перовский,
думал ли я, что его невесте, этой московской милой барышне,
танцевавшей прошлою весною на тамошних балах, любимице семьи,
придется погибнуть в литовской трущобе?.. Никто ее здесь не
знает, никто не пожалеет, и родная рука не бросит ей на
безвестную могилу и горсти мерзлой земли". Слезы катились из глаз
Квашнина, и он не помнил, как сидел на коне и как двигался среди
товарищей по бесконечному дремучему лесу, охватившему его со всех
сторон. Всадники ехали молча. Косматые ели и сосны, усыпанные
снегом, казались Квашнину мрачными факельщиками, а партизанский
отряд, с каркающими и перелетающими над ним воронами, - без конца
двигающеюся траурною процессией.
Наполеон проехал Вильну в Екатеринин день, 24 ноября, а русскую
границу - 26 ноября, в день святого Георгия. Эту границу
император французов проехал в том жидовско-шляхетском возке, в
котором по нем был сделан неудачный выстрел в Ошмянах.
Подпрыгивая па ухабах в этом возке, Наполеон с досадой вспоминал
торжественную прокламацию, изданную им несколько месяцев назад,
при вступлении в неведомую для него в то время Россию. "Мои
народы, мои союзники, мои друзья! - вещал тогда миру новый
могучий Цезарь, - Россия увлечена роком. Потомки Чингисхана зовут
нас на бой - тем лучше: разве мы уже не воины Аустерлица? Вперед!
покажем силу Франции, перейдем Неман, внесем оружие в пределы
России; отбросим эту новую дикую орду в прежнее се отечество, в
Азию". Теперь Наполеон, вспоминая эти выражения, только
подергивал плечами и молча хмурился. Его мыслей не покидал образ
сожженной Москвы и его вынужденный позорный выход из ее грозных
развалин. "Зато будет меня помнить этот дикий, надолго
истребленный город!" - рассуждал Наполеон, убеждая себя, что он и
никто другой сжег Москву. Его путь у границы лежал по
кочковатому, замерзшему болоту. На одном из толчков возок вдруг
так подбросило, что император стукнулся шапкой о верх кузова и,
если бы не ухватился за сидевшего рядом с ним Коленкура, его
выбросило бы в распахнувшуюся дверку.
- От великого до смешного один шаг! - с горькою улыбкой сказал
при этом Наполеон слова, повторенные им потом в Варшаве и ставшие
с тех пор историческими. - Знаете, Коленкур, что мы такое теперь?
- Вы - тот же великий император, а я - ваш верный министр, -
поспешил ответить ловкий придворный.
- Нет, мой друг, мы в эту минуту - жалкие, вытолкнутые за порог
фортуной, проигравшиеся до нового счастья авантюристы!
А в то время как, не поспевая за убегавшим Наполеоном и падая от
голода и страшной стужи, шли остатки его еще недавно бодрых и
грозных легионов, в русских отрядах, которые без устали
преследовали их и добивали, все ликовало и радовалось. В
пограничных городах и местечках, куда, по пятам французов,
вступали русские полки и батареи, шло непрерывное веселье и
кутежи. Полковые хоры пели: "Гром победы раздавайся!"
Жиды-факторы, еще на днях уверявшие французов, что все предметы
продовольствия у них истощены, доставляли к услугам тех, кто
теперь оказывался победителем, все, что угодно. Точно из-под
земли, в городских трактирах, кавярнях и даже в местечковых
корчмах появлялись в изобилии не только всякие съестные припасы,
но даже редкие и тонкие вина. Стали хлопать пробки клико; полился
где-то добытый и родной "шипунец" - донское-цимлянское.



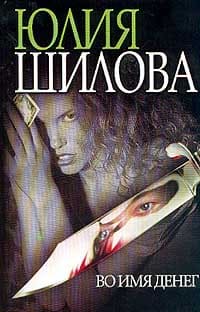


 Посняков Андрей
Посняков Андрей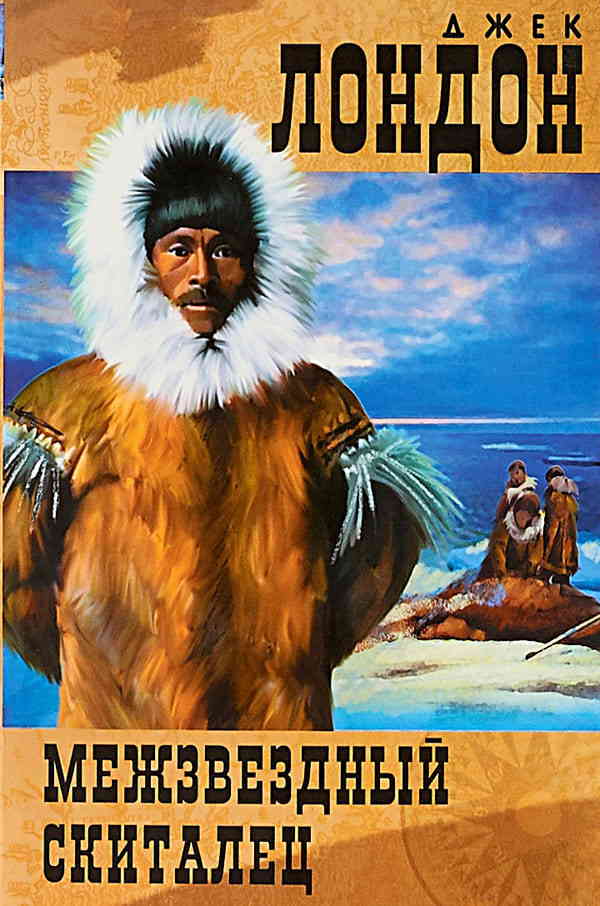 Лондон Джек
Лондон Джек Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Махров Алексей
Махров Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Куликов Роман
Куликов Роман