двое - он бы просто не пережил этого.
украшенном прелестными представительницами Оперы и Комедии. Монсеньер почти
каждый вечер ужинал не у себя дома, и всегда в самой изысканной компании.
Монсеньер отличался такой обходительностью и такой тонкостью чувств, что,
даже когда ему приходилось возиться со скучнейшими государственными делами и
государственными секретами, он и тут руководствовался главным образом
интересами Оперы и Комедии, а отнюдь не нуждами Франции. И, конечно, Франция
чувствовала себя польщенной и могла только радоваться этому, как и всякая
страна, когда к ней проявляют столь галантное отношение; так, например,
радовалась Англия в невозвратимые дни торговавшего ею веселого Стюарта *.
самого благородного правила - не вмешиваться ни во что и предоставить всему
идти своим путем; но что касается некоторых государственных дел,
находившихся в его непосредственном ведении, - здесь монсеньер руководился
другим не менее благородным правилом: тут все должно было идти его путями,
способствовать умножению его власти, а также его казны. Что же касается его
развлечений вообще и в частности, - тут монсеньер твердо держался еще одного
истинно благородного правила, что весь мир только и существует для его
удовольствия. "Ибо моя земля и все, что наполняет ее" *, - говорил монсеньер
словами священного писания, из коих он только одно-единственное позволил
себе заменить личным местоимением.
общегосударственного, так и частного порядка, стали возникать кой-какие
затруднения самого низменного свойства; и волей-неволей пришлось ему из-за
тех и других дел породниться с генеральным откупщиком, ибо, что касалось
государственных финансов, тут монсеньер уж ровно ничего не мог сделать, и,
следовательно, надо было передать это дело тому, кто мог; ну, а что касается
его личных финансов, то у генерального откупщика денег было девать некуда, а
монсеньер, после того как многие поколения его предков и он сам жили в свое
удовольствие и не знали счету деньгам, последнее время стал ощущать в них
сильный недостаток. Поэтому монсеньер поспешил взять свою сестру из
монастыря, покуда ее еще не успели постричь и облачить в монашеское одеяние
(из всего, что ей приличествовало, оно было самое дешевое) и отдал ее в
качестве залога в жены очень богатому откупщику, у которого было все, кроме
знатного происхождения. И теперь этот самый откупщик носил жезл с золотым
шариком и вместе со всеми другими ожидал в зале выхода его светлости; все
перед ним заискивали и относились к нему с необычайной почтительностью, -
все, за исключением высокородных родственников монсеньера: эти существа
высшей породы, и в первую очередь его собственная супруга, смотрели на него
сверху вниз и обращались с ним как нельзя более пренебрежительно.
лошадей стояло у него в конюшнях, две дюжины лакеев торчали в передней,
полдюжины камеристок обхаживали его жену. Человек этот не прикидывался,
будто он что-то делает, а просто тащил и грабил всюду, где только возможно,
(впрочем, супружеские его отношения безусловно способствовали укреплению
общественной нравственности), а посему среди всех персонажей, собравшихся
сегодня во дворце монсеньера, генеральный откупщик представлял собой нечто
несомненно реальное. Потому что, сказать по правде, в этих великолепных
залах, пленявших взоры своим пышным убранством, чудесными произведениями
искусства и всем, что могло бы удовлетворять самый изысканный вкус, было
что-то ходульное, не настоящее; потому что, если, приглядевшись к ним,
вспомнить толпы страшных пугал в лохмотьях и колпаках, ютившиеся где-то там
(да и не так уж далеко, ибо сторожевые башни Нотр-Дам, возвышавшиеся почти
на равном расстоянии между этими двумя полюсами, взирали на тот и на
другой), видно было, что все это как-то очень непрочно держится, но вряд ли
кому приходило в голову задуматься над этим на приеме у монсеньера. Высшие
военные чины, не имеющие ни малейшего представления о военном деле; высокие
представители флота, никогда не видавшие корабля; ведомственные сановники,
никогда не ведавшие никакими делами; служители церкви, приверженные всякой
скверне мирской, бесстыжие, с плотоядным взором, блудливыми речами,
погрязшие в распутстве, - все это были люди совершенно непригодные для того
звания, коим они были облечены, и все они с утра до вечера изощрялись во
вранье, притворяясь пригодными. Но так как все они более или менее были
приближенными монсеньера, из его клики, им и предоставлялись все должности,
на которых можно было чем-то попользоваться; и таких людей здесь было
великое множество. Однако не меньше было и таких, которые, даже не будучи в
непосредственной близости к монсеньеру или государственным делам, тоже не
имели отношения к чему бы то ни было настоящему и отнюдь не принадлежали к
числу людей, занимающихся каким-нибудь честным делом. Доктора, излечивающие
от воображаемых болезней с помощью каких-то чудодейственных снадобий, на
которых они наживали громадные состояния, искательно улыбались своим
сановным пациентам в приемных монсеньера; прожектеры, располагавшие
всевозможными средствами для устранения разных мелких пороков, расшатывавших
государственный организм, осаждали в гостиных монсеньера всех, кому было не
лень их слушать, и наперебой предлагали свои замечательные средства; не
предлагали только одного - взяться честно за дело и постараться искоренить
хотя бы один из этих пороков. Ни во что не верящие философы, бросавшие вызов
небесам своими картонными вавилонскими башнями и готовые на словах
переделать весь мир, беседовали в гостиных монсеньера с ни во что не
верящими химиками, одержимыми одной навязчивой идеей - превращать металл в
золото. Светские молодые люди тончайшего воспитания, которое в те
достопамятные времена (так же, как и в наше время) проявлялось в полнейшем
равнодушии ко всему естественному и человеческому, слонялись по апартаментам
монсеньера в томном изнеможении. У многих из этих знатных особ высшего
парижского света была какая-то своя семейная жизнь, но даже и тайные агенты,
сновавшие среди посетителей монсеньера и составлявшие добрую половину этого
избраннейшего общества, вряд ли обнаружили бы среди ангельских созданий,
украшающих сии высокие сферы, хотя бы одну-единственную супругу, которую по
ее поведению и внешности можно было бы признать Матерью. Если право
называться матерью обретается не только тем, чтобы произвести на свет
маленькое писклявое существо, - то здесь никто не стремился его заслужить -
это было не принято. Ребенка отправляли в деревню к кормилице, где его
кормили и растили, а прелестные шестидесятилетние бабушки наряжались, ездили
ужинать и вели себя так, словно им только что исполнилось двадцать.
зараженного этой страшной болезнью - никчемностью. В зале, что поближе к
передней, собралось с полдюжины совершенно особенных личностей; их уже
несколько лет посещали мрачные предчувствия, что мир сбился с пути, и дабы
вернуть его на путь истинный, одна половина из этой полудюжины вступила в
некую изуверскую секту трясунов *, и оная троица даже и сейчас подумывала,
не впасть ли ей в исступление с дикими выкриками, судорогами и пеной у рта,
дабы вразумить монсеньера, ибо он должен узреть в сем перст провидения,
указующий ему путь истины. Рядом с этими тремя дервишами было еще трое
других, принадлежавших к другой секте, которая спасала мир какими-то
кабалистическими откровениями на счет "Центра Истины", утверждая, что
человек отторгся от Центра Истины - чему не требовалось доказательств, - но
еще не переступил роковой черты, не вышел за пределы круга и надо толкать
его обратно к Центру, а для сего необходимо поститься и общаться с духами.
Итак, сия троица находилась в непрестанном общении с духами, что, конечно,
служило на благо мира, хотя пока этого что-то не замечалось.
посетители были превосходно одеты. Если бы в День Страшного суда происходил
смотр нарядов, то все собравшиеся здесь были бы признаны безупречными на
веки вечные. Искусно уложенные, приглаженные и напудренные локоны париков!
Тонкие оттенки красок на искусственно сохранившихся или свеже нарумяненных
лицах! А какие великолепные шпаги! Какое упоительное благоухание! - Разве
это не было порукой, что все идет как нельзя лучше, и так оно и будет идти
до скончания века! Изящные молодые люди, тончайшего воспитания, носили
золотые побрякушки, подвешенные в виде брелоков, и при каждом их томном
движении брелочки тонко позвякивали; эти золотые колодочки звенели, как
драгоценные бубенчики, и от этого звона, и от шелеста шелков и парчи, и
тончайшего батиста по залам словно пробегал ветер, который относил
далеко-далеко Сент-Антуанское предместье с его ненасытным голодом.
который носили в предотвращение каких бы то ни было перемен, чтобы все
оставалось неизменным, на своих местах. Все ходили разряженные, как на
карнавале, и карнавалу этому не было конца. Карнавал царил всюду: начиная с
Тюильрийского дворца * и покоев монсеньера, он распространился по всем
палатам, захватил придворных, министров, судей - всех, вплоть до палача
(исключение составляли одни только пугала): палачу, при исполнении его
обязанностей, дабы не нарушать чар талисмана, надлежало быть "в пудреном
парике с завитыми буклями, в шитом золотом камзоле, в белых шелковых чулках
и туфлях с бантами". Орудовал ли он у виселицы или у колеса (в то время
редко рубили головы), - господин Парижский - так, следуя епископскому
обычаю, величали его ученые собратья провинциальных кафедр, господин
Орлеанский и прочие, - неизменно выступал в этом изысканном одеянии. И у
кого же из посетителей монсеньера, собравшихся в его гостиных в лето
Христово тысяча семьсот восьмидесятое, могла бы возникнуть даже тень
сомнения, что такой превосходный строй, прочно опирающийся на палача в
пудреном парике с буклями, в шитом золотом камзоле, в белых шелковых чулках
и в туфлях с бантами не будет длиться вечно и не переживет вселенную?
каждый из них, и, выкушав шоколад, приказал открыть двери святилища и,
наконец, вышел в зал. Боже, какими вдруг все стали угодливыми, смиренными,
почтительными, предупредительными, раболепными! Как подобострастно
кланялись, как простирались ниц! С каким самозабвенным усердием преклоняли
душу и тело - где уж такой распростертой душе возносить молитвы к небу! На
это ее не хватало - и, должно быть, это и была одна из причин, почему
почитатели монсеньера никогда не тревожили небес.


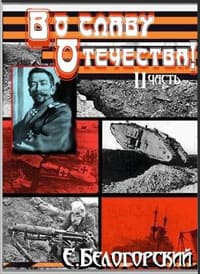
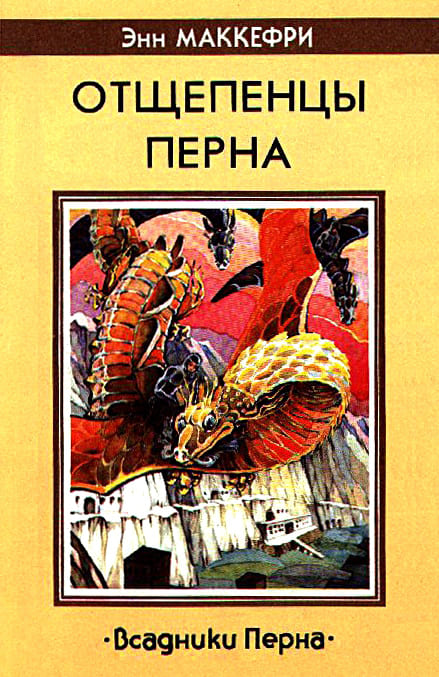


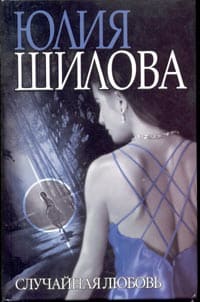 Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман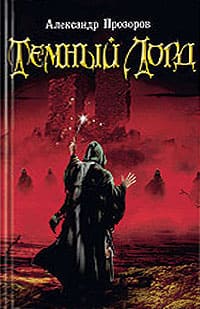 Прозоров Александр
Прозоров Александр Трубников Александр
Трубников Александр Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий