кончилось для вас благополучно и как можно скорей! В любых иных условиях
было бы дерзостью, но здесь - разрешите узнать ваше имя и звание.
попасть ему в тон.
тюремщика, который направился в другой конец помещения, - я надеюсь, вы не в
секретную?
именно это выражение.
нашего общества кое-кто сначала находился в секретной, но это продолжалось
недолго. - Затем, повернувшись к остальным, он прибавил, повысив голос: - С
сокрушением сообщаю: в секретную.
к заделанной железными прутьями двери, где его дожидался тюремщик, и в хоре
голосов, напутствующих его добрыми пожеланиями, особенно участливо и
сердечно звучали голоса женщин. У двери он обернулся поблагодарить их от
всей души; тюремщик, пропустив его вперед, захлопнул дверь, и все эти
призрачные виденья навеки скрылись из глаз Дарнея.
поднялись на сорок ступеней (всего каких-нибудь полчаса, как Дарней стал
узником, а он уже считал ступени), тюремщик отпер низкую черную дверь, и они
вошли в одиночную камеру, холодную, сырую, но не темную.
проверять, тогда спросите. А пока что ничего, кроме еды, покупать нельзя.
тюремщик, прежде чем уйти, внимательно оглядывал все четыре стены и эти
предметы, узник стоял, прислонясь к притолоке, и странные мысли бессвязно
проносились у него в голове: "Вот этот тюремщик, он весь точно налит водой,
совсем как утопленник, распух с головы до ног..." А когда тюремщик ушел, у
него так же бессвязно завертелась другая мысль: "Похоронили меня, как будто
я уже умер". Затем он шагнул к матрацу и нагнулся, чтобы осмотреть его, но
тотчас же отшатнулся с омерзением. "Вот эта ползучая мразь, как только
человек умер, сейчас же и заводится в трупе", - подумал он.
половиной, пять на четыре с половиной". Узник шагал взад и вперед, вдоль и
поперек по камере и считал шаги, а уличный шум города глухо звучал за
стенами, сливаясь в сплошной гул неумолчного барабанного боя и дикого
неистового рева многоголосой толпы. "Он шил башмаки - шил башмаки - шил
башмаки". Узник метался по камере и снова и снова принимался считать шаги,
стараясь отвлечься от повторения этих привязавшихся к нему слов. "Как они
внезапно исчезли, эти призраки, когда захлопнулась дверь. Там, среди этих
видений, мелькнула женщина в черном; она стояла в амбразуре окна, и свет
падал на ее золотистые волосы, она чем-то напомнила мне... О господи! Лучше
уж ехать опять по бесконечным дорогам, мимо светящихся огней деревень, где
не спят по ночам!.. Он шил башмаки - шил башмаки - шил башмаки. Пять на
четыре с половиной..." Все эти бессвязные обрывки всплывали неожиданно
откуда-то из глубины его сознания, и он шагал все быстрее, быстрее, не
переставая лихорадочно считать; а в неумолчном шуме города сквозь рев
многоголосой толпы, звучавший по-прежнему глухим барабанным боем, ему
слышались горестные, скорбные, милые его сердцу голоса.
большого особняка, стоявшего в глубине двора, за высокой оградой с чугунными
воротами. Дом принадлежал знатному вельможе, который жил в нем до тех пор,
пока волнения и беспорядки не вынудили его обратиться в бегство.
Переодевшись в платье собственного повара, он перебрался через границу. Но и
после этого превращения в загнанного зверя, спасающегося от преследующих его
охотников, он сохранил свои прежние черты и остался тем самым монсеньером,
которому три молодца лакея, не считая вышеупомянутого повара, подавали в
постель утренний шоколад.
услуги платили высокое жалованье, изъявили пламенную готовность искупить
свою вину и перерезать горло своему господину, чтобы принести его в жертву
на алтарь новоявленной Республики, единой, неделимой, несущей Свободу,
Равенство, Братство или Смерть, и дом был сначала опечатан, а затем объявлен
государственной собственностью. События так быстро следовали одно за другим,
и декрет за декретом издавались с такой стремительностью, что третьего
сентября вечером народные блюстители закона уже распоряжались в доме
монсеньера; они водрузили на нем трехцветный флаг и, расположившись с
удобством в парадном зале, распивали коньяк.
парижская контора, глава фирмы очень скоро сошел бы с ума и его имя
неминуемо попало бы в Лондонскую Газету, в коей сообщаются имена банкротов.
Ибо трудно даже и вообразить себе, чтобы трезвое английское здравомыслие и
английская респектабельность могли мириться с рядами померанцевых деревьев в
кадках на дворе банка или, еще того хуже, с купидоном над кассой. А ведь так
оно и было на самом деле. И хотя купидона замазали штукатуркой, его все
равно отлично было видно на потолке; одетый как нельзя более откровенно, он
с утра до вечера прицеливался сверху к деньгам (что, вообще говоря,
свойственно купидонам). Да, конечно, банк Теллсона на Ломберд-стрит в
Лондоне потерпел бы неминуемый крах из-за этого юного язычника, чему немало
способствовал бы также и глубокий альков за тяжелыми драпировками, здесь же,
за спиной бессмертного шалуна, и громадное зеркало в стене, да и сами
банковские служащие, отнюдь не старые и чуть что готовые пуститься в пляс,
тут же, на людях. Однако парижская контора Теллсона отлично уживалась со
всем этим, и пока все шло мирно и гладко, никого не пугала такая
легкомысленная обстановка и никто не требовал своих вкладов обратно.
невостребованными, забытыми; сколько серебра, золота и драгоценностей будет
лежать в подвалах Теллсона, постепенно теряя свой блеск, в то время как
люди, отдавшие их на хранение, будут гнить в тюрьмах, а иных постигнет лютая
смерть; сколько текущих счетов, так и оставшихся незакрытыми, Теллсону
придется захватить с собою на тот свет, - этого еще никто не мог сказать, и
сам мистер Джарвис Лорри тщетно ломал голову весь вечер, стараясь найти
какие-то концы. Он сидел у только что затопленного камина (в этот ужасный
голодный год холода наступили рано), и такая мрачная тень лежала на его
честном мужественном лице, что и тень от висячей лампы и причудливые тени от
мебели, стоящей в комнате, отступали перед этим мраком, ибо это был мрак
ужаса, от которого содрогалась душа.
своей службы он сросся с ней наподобие старого плюща, врастающего корнями в
стены. С тех пор как главное здание заняли патриоты, здесь стало более или
менее безопасно, но честный, преданный старик вовсе и не рассчитывал на это.
Он поступил так, как диктовало ему чувство долга, и никаких других
соображений у него не было. Против окон банка, по ту сторону двора, под
крытой колоннадой, где когда-то теснились ряды экипажей и где и сейчас еще
стояло несколько карет и колясок бежавшего монсеньера, два громадных
пылающих факела были прикреплены к выступам двух крайних колонн, а рядом,
под открытым небом, в круге света, отбрасываемого факелами, громоздился
большой точильный круг; это было очень нескладное сооружение, его, должно
быть, смастерили кое-как, наспех, в соседней кузнице или еще какой-нибудь
мастерской, и притащили сюда. Мистер Лорри встал, подошел к окну, бросил
взгляд на это безобидное приспособление, передернулся и, закрыв окно,
вернулся к своему креслу у камина. До сих пор у него было открыто не только
окно, но и наружные ставни; сейчас он закрыл и то и другое, и все равно он
весь дрожал как в ознобе.
городской шум, но сегодня в него врывались такие страшные, исступленные
вопли, словно чьи-то дикие, отчаявшиеся нечеловеческие голоса взывали к
небу.
что никого из близких и дорогих мне людей нет сегодня в этом ужасном городе.
Смилуйся, боже, надо всеми, кому грозит опасность!
Он знал, что во дворе сейчас поднимется шум и возня, но до него донесся
только стук захлопнувшихся ворот, и все снова стихло.
теперь тревожные опасения за банк - в эту ночь всего можно было ожидать, ибо
город был охвачен безумием. Банк хорошо охранялся, и он решил пойти
поговорить с верными сторожами, на которых вполне можно было положиться, но
только успел подняться с кресла, как дверь в кабинет распахнулась, и две
знакомые фигуры стремительно бросились к нему. Мистер Лорри так и обомлел и
бессильно упал в кресло.
молящий взор, и на лице ее точно застыло то хорошо знакомое ему мучительно
недоумевающее выражение, - в котором сейчас было что-то до того хватающее за
сердце, как будто сама душа ее молила, вопрошала и заклинала судьбу в этот
страшный для нее час.
- Что это значит? Люси! Манетт! Что случилось? Как вы попали сюда? Зачем?






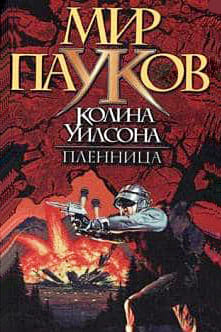 Прозоров Александр
Прозоров Александр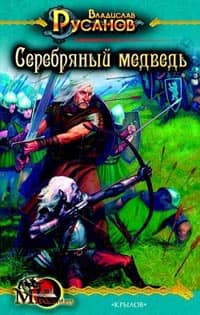 Русанов Владислав
Русанов Владислав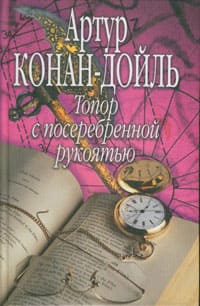 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур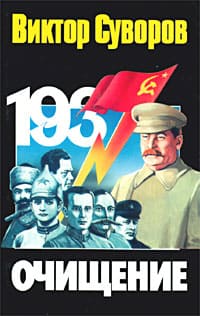 Суворов Виктор
Суворов Виктор Шилова Юлия
Шилова Юлия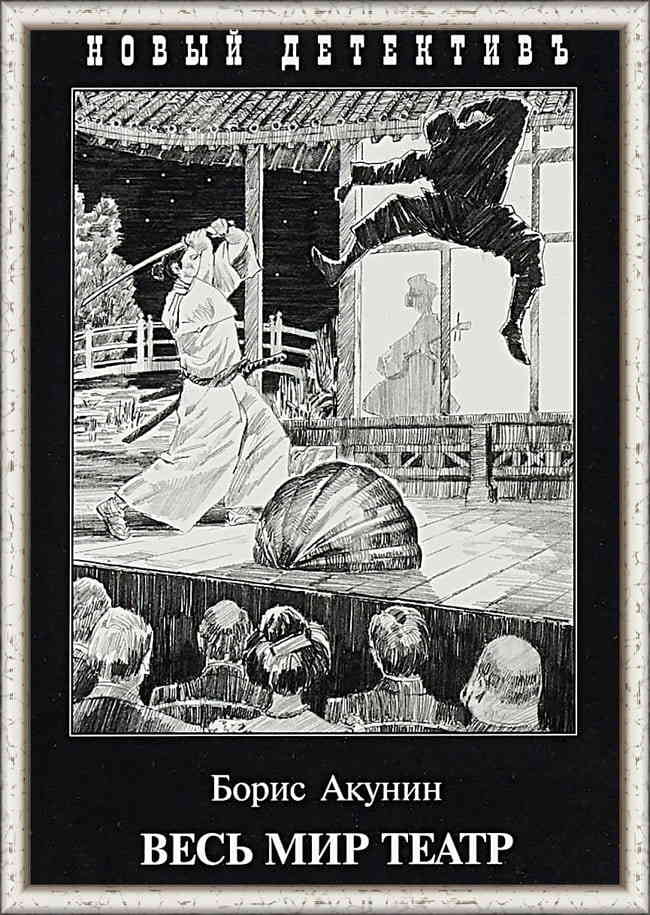 Акунин Борис
Акунин Борис