солнечный летний зной, и в ненастную осеннюю пору, и снова в зимнюю стужу -
Люси каждый день выстаивала на этом месте два часа н всякий раз, уходя,
целовала стену тюрьмы. Мужу не всегда удавалось ее видеть - раз в пять-шесть
дней (это она знала от отца), иногда три дня подряд, а иногда он не видел ее
неделю-две. Но Люси достаточно было знать, что он может увидеть ее и видит
иногда, и если бы ради этого надо было стоять здесь с утра до вечера, она
ходила бы сюда дежурить день за днем.
по-прежнему продолжал свирепствовать террор, отец Люси не падал духом и не
сомневался в благополучном исходе. Как-то раз в мягкий снежный день Люси в
обычное время пришла на свой заветный угол. Был какой-то праздник, и на
улицах шло буйное веселье. Люси по дороге видела, что на многих домах
водрузили пики с развевающимися на них красными колпаками и трехцветными
лентами; кое-где на фронтонах красовались огромные надписи (их теперь тоже
делали трехцветными буквами): Республика Единая, Неделимая - Свобода,
Равенство, Братство или Смерть.
надписи; но, как-никак, ему кто-то намалевал ее, и только Смерть пришлось
сильно ужать, видно было, что ее втиснули с трудом. На крыше у него, как и
всех добропорядочных граждан, красовалась пика с красным колпаком, а в окне
он выставил свою пилу с надписью "Святая Гильотиночка", ибо большая зубастая
кумушка Гильотина давно уже попала в святые и так ее и величали в народе.
Сарай пильщика был закрыт, и самого его не было видно. Люси вздохнула с
облегчением, - наконец-то она здесь совсем одна и он ей не будет мешать! Но
он оказался неподалеку; вскоре она услышала какой-то шум, крики, топот и со
страхом обнаружила, что все это приближается к ней. Через минуту из-за
тюремной стены показалась толпа, и она увидела пильщика, который,
схватившись за руки с Местью, кружился в пляске. Толпа была громадная,
человек пятьсот, и все они плясали как одержимые. Музыки не было, они
плясали под собственное пение. Пели сложенную в то время излюбленную
революционную песню * с грозным отрывистым ритмом, напоминавшим какое-то
дикое лязганье или скрежет зубовный. Схватившись за руки - мужчины с
женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, - кружились кто с кем
придется. Вначале даже нельзя было разобрать, что это пляска; казалось, это
какой-то бешеный вихрь стремительно мелькающих красных колпаков и пестрых
лохмотьев. Но когда вся толпа вышла на открытое место и закружилась перед
тюрьмой, что-то похожее на фигуры какого-то дикого неистового танца стало
проступать в этом круженье. Став друг против друга, они сходились, потом,
отпрянув назад, ударяли друг дружку в ладоши, хватали друг друга за головы
и, снова отпрянув, кружились сначала в одиночку, потом, схватившись за руки,
парами, все быстрей и быстрей, пока многие не падали в изнеможенье; тогда,
сомкнувшись в хоровод, толпа кружила вокруг упавших, затем распадалась на
маленькие кружки; кружились четверками, парами, а потом вдруг все сразу
останавливались; и опять все начиналось сначала, сходились, отпрядывали,
хлопали в ладоши и снова принимались кружиться в другую сторону. Наконец,
когда они уже в который раз внезапно остановились, на минуту водворилась
тишина; потом, хлопнув в ладоши, они снова затянули песню, грозно отбивая
такт, построились в колонну, во всю ширину улицы, и, опустив головы и
вскинув руки, с воем ринулись дальше.
битва не могла бы произвести такого страшного впечатления; невинное здоровое
развлечение - танец, превратилось в какой-то бесовский пляс, гневный,
дурманящий голову и разжигающий ярость. И когда в Этих порывистых движениях
мелькало что-то грациозное, они казались еще ужаснее, оттого что природная
грация и красота были так жестоко изуродованы. Юная девическая грудь,
обнаженная в неистовом исступлении, прелестное, почти детское личико с дико
остановившимся взглядом, маленькая ножка, топтавшая кровавое месиво, - вот
что мелькало в бешеном вихре этой бесовской пляски.
испуганная, потрясенная, она стояла, прислонившись к стене убогой лачужки
пильщика, а снег падал беззвучно, большими белыми пушистыми хлопьями, и
кругом было так тихо, как будто ничего этого и не было. Она стояла, закрыв
лицо руками, и не видела, как подошел отец.
нечего бояться.
Чарльза.
он пробирался туда, и пришел тебе сказать. Кругом сейчас никого нет, можешь
послать ему поцелуй, он смотрит на тебя вон из-под того выступа, под самой
крышей.
поцелуем!
слез глазами в защищенную выступом решетку и посылая туда воздушный поцелуй,
- нет!
опять никого нет. Точно черная тень перерезала белую дорогу и скрылась.
повеселей, ради Чарльза. Вот и хорошо. - Они вышли из переулка. - Этим ты и
его подбодрила. Завтра его вызывают в суд.
предпринять кое-какие шаги, но этого нельзя сделать, пока не соберется
трибунал. Чарльза еще не уведомляли, но сегодня ему объявят об этом и
переведут в Консьержери *. Мне сообщили заблаговременно. Ты, надеюсь, не
боишься?
концу. Еще несколько часов, и тебе возвратят его. Я постарался склонить в
его пользу всех, от кого зависит решение. Мне надо повидать Лорри.
Оба, и отец и дочь, знали, что это значит. Одна. Две. Три. Три телеги,
битком набитые страшным грузом, двигались по заснеженной мостовой.
Люси в первый переулок.
делами фирмы; он не считал возможным сложить с себя ответственность. В связи
с конфискацией имущества в банк поступали частые запросы, и он удовлетворял
их с помощью своих книг. Он не щадил усилий, чтобы спасти все, что можно,
для законных владельцев, и ему это иногда удавалось. Никто лучше его не мог
бы уберечь вверенные Теллсону ценности и избежать при этом всяких
неприятностей и огласки.
туман, надвигались сумерки. Когда они подошли к банку, уже почти стемнело.
Угрюмый, пустынный, вырос перед ними в темноте величественный дворец
монсеньера. На дворе над кучей мусора белела громадная вывеска: Народная
собственность. Республика Единая, Неделимая, Свобода, Равенство, Братство
или Смерть!
стуле? Кто этот посетитель, который только что прибыл откуда-то и не желает
показываться? Мистер Лорри, взволнованный и удивленный, бросился к Люси и
горячо обнял свою любимицу. Кому он повторил то, что она ему сказала? С кем
это он говорил, когда, повернувшись к дверям спальни, откуда он только что
вышел, он повторил за ней, повысив голос:
несменяемых присяжных, заседал каждый день. Каждый вечер тюремщики во всех
тюрьмах оглашали списки тех, кого вызывали в трибунал. И так уж оно
повелось, что все тюремщики, входя вечером в камеру, выкрикивали: "А ну,
подходи слушать Вечернюю газету, вы там!"
становился в сторону, за загородку; для тех, кто значился в этом роковом
списке, в камере было огорожено особое место. Шарль Эвремонд, он же Дарней,
успел изучить это тюремное правило: сотни людей на его глазах проходили за
эту загородку и исчезали.
глянул поверх очков и, убедившись, что он стал, куда ему полагалось,
выкрикнул следующее имя; так, останавливаясь после каждого имени, он огласил
весь список.
названных умер в тюрьме, о чем, как видно, успели позабыть, а двое сложили
головы на гильотине, и об этом тоже забыли. Список читали в том самом
помещении с низким сводчатым потолком, где Дарней увидел такое множество
заключенных в тот день, когда его только что привели сюда. Все они погибли,
когда толпа расправлялась с узниками. Исчезли и все те, к кому он успел
привязаться за это время, все они до одного погибли на эшафоте.
руки, но явно спешили вернуться в свой тесный круг. Для них это не было
событием, все это повторялось изо дня в день, а светское общество Лафорса в
этот вечер собиралось играть в фанты и устраивало маленький концерт. Они
теснились у загородки, прощались, вытирая слезы, но ведь надо же было успеть
заменить кем-то двадцать выбывших из игры, а времени оставалось немного,
скоро общие камеры запрут на ночь, а в коридоры выпустят свирепых собак,





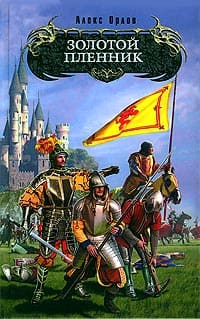
 Корнев Павел
Корнев Павел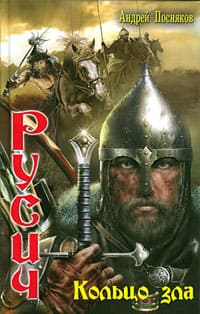 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел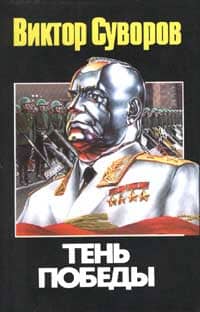 Суворов Виктор
Суворов Виктор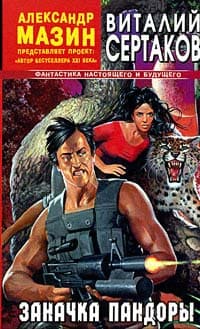 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий