каникул он и ты, Грейс, гуляли под ручку, словно две живые куколки. Помнишь?
замелькала иголка.
ведь с тех каникул как будто прошло не больше года. Где же была тогда моя
маленькая Мэрьон?
проговорила Мэрьон. - Ведь Грейс была для меня всем на свете, хотя сама она
тогда была еще ребенком.
маленькой женщиной, наша Грейс, и хорошей хозяйкой и вообще деловитой,
спокойной, ласковой девочкой; терпеливо выносила наши причуды, предупреждала
наши желания, постоянно забывая в своих собственных, и все это - уже в
раннем детстве. Ты даже в те времена никогда не была настойчивой и упрямой,
милая моя Грейс... разве только с одним исключением.
сказала Грейс, не отрываясь от работы. - Что ж это за исключение, отец?
поделать: ты просто требовала, чтобы тебя называли женой Элфреда; ну мы и
называли тебя его женой, и как это ни смешно теперь, я уверен, что тебе
больше нравилось бы называться женой Элфреда, чем герцогиней, - если бы мы
могли присвоить тебе герцогский титул.
так давно. - И, продолжая работать, она стала напевать припев одной
старинной песенки, которая нравилась доктору.
наступит счастливое время для всех нас. Три года я тебя опекала, Мэрьон, а
теперь мое опекунство подходит к концу. Тебя было очень легко опекать. Я
скажу Элфреду, когда верну ему тебя, что ты все это время нежно любила его и
что ему ни разу не понадобилась моя поддержка. Могу я сказать ему это,
милая?
опекать меня так великодушно, благородно, неустанно, как ты, и что все это
время я все больше и больше любила тебя и, боже! как же я люблю тебя теперь!
ему, пожалуй, не скажу; предоставим воображению Элфреда оценить мои заслуги.
Оно будет очень щедрым, милая Мэрьон, так же, как и твое.
заговорила с такой страстностью; и снова Грейс запела старинную песню,
которую любил доктор. А доктор по-прежнему покоился в своем кресле, протянув
ноги в туфлях на коврик, слушал песню, отбивая такт у себя на колене письмом
Элфреда, смотрел на своих дочерей и думал, что из всех многочисленных
пустяков нашей пустячной жизни эти пустяки едва ли не самые приятные.
комнате до тех пор, пока не узнала всех новостей, спустилась в кухню, где ее
сотоварищ мистер Бритен наслаждался отдыхом после ужина, окруженный столь
богатой коллекцией сверкающих сотейников, начищенных до блеска кастрюль,
полированных столовых приборов, сияющих котелков и других вещественных
доказательств трудолюбия Клеменси, развешенных по стенам и расставленных по
полкам, что казалось, будто он сидит в центре зеркального зала. Правда, вся
эта утварь в большинстве случаев рисовала не очень лестные портреты мистера
Бритена и отражала его отнюдь не единодушно: так, в одних "зеркалах" он
казался очень длиннолицым, в других - очень широколицым, в некоторых -
довольно красивым, в других - чрезвычайно некрасивым, ибо все они отражали
один и тот же предмет по-разному, так же как люди по-разному воспринимают
одно и то же явление. Но все они сходились в одном - посреди них сидел
человек, развалившись в кресле, с трубкой во рту и с кувшином пива под
рукой, человек, снисходительно кивнувший Клеменси, когда она уселась за тот
же стол.
Надо сказать, что Бенджамин с головы до ног переменился к лучшему. Он очень
пополнел, очень порозовел, очень оживился и очень повеселел. Казалось, что
раньше лицо у него было завязано узлом. а теперь оно развязалось и
разгладилось.
попыхивая трубкой. - А нас с тобой, Клемми, пожалуй, снова заставят быть
свидетелями.
вывертывая свои излюбленные суставы. - Кабы это со мной было, Бритен!
рассмешила самая мысль о том, что она может выйти замуж!
Бритен, снова принимаясь за трубку.
серьезно.
соберешься когда-нибудь жениться, Бритен, правда?
огромный клуб дыма, мистер Бритен стал рассматривать его, наклоняя голову то
вправо, то влево - словно клуб дыма и был вопросом, который предстояло
рассмотреть со всех сторон, - и, наконец, ответил, что это ему еще не совсем
ясно, но, впрочем... да-а... он полагает, что в конце концов вступит в брак.
сомневаться.
на стол, и, вся в мыслях о прошлом, уставилась на свечу, - и не получила бы
такого общительного мужа, если бы не... (хоть я и не нарочно старалась тебя
расшевелить, все вышло само собой, ей-ей), если бы не мои старанья; ведь
правда, Бритен?
наслаждения трубкой, когда курильщик, разговаривая, едва в состоянии
приоткрывать рот и, недвижно блаженствуя в кресле, способен повернуть в
сторону соседа одни лишь глаза, и то очень лениво и бесстрастно. - Да, я
тебе, знаешь ли, очень обязан, Клем.
внезапно вспомнив о целебных свойствах свечного сала, щедро вымазала свой
левый локоть этим лекарством.
рода, - продолжал мистер Бритен с глубокомыслием мудреца, - ведь у меня
всегда был любознательный склад ума - и я прочел множество книг о добре и
зле, ибо на заре жизни сам был прикосновенен к литературе.
было сидеть спрятанным за книжным прилавком, чтобы выскочить оттуда, как
только кто-нибудь вздумает прикарманить книжку; а после этого я служил
посыльным у одной корсетницы-портнихи, и тут меня заставляли разносить в
клеенчатых корзинках одно лишь сплошное надувательство; и это ожесточило мою
душу и разрушило мою веру в человеческую натуру; а затем я то и дело слышал
споры в этом доме, что опять-таки ожесточило мою душу, и вот в конце концов
я решил, что самое верное и приятное средство смягчить эту душу, самый
надежный руководитель в жизни, это терка для мускатного ореха.
мысль.
заметила Клеменси, очень довольная его признанием, и, удовлетворенно сложив
руки, похлопала себя по локтям. - Кратко, но ясно, правда?
настоящей философией. У меня на этот счет сомнение; но если бы все так
поступали, на свете было бы куда меньше воркотни, так что от них большая
польза, чего от настоящей философии не всегда можно ожидать.
это то, что я исправился благодаря тебе. Вот что странно. Благодаря тебе! А
ведь у тебя, наверно, и мысли-то нет ни одной в голове.
крепко сжала себе локти и сказала:
меня есть мысли. Да мне они и не нужны.
него по лицу.
головой и вытирая глаза.
расхохоталась так же искренне, как и он.



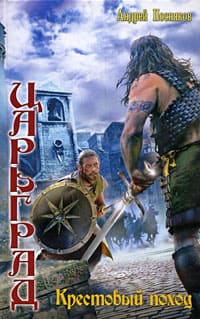
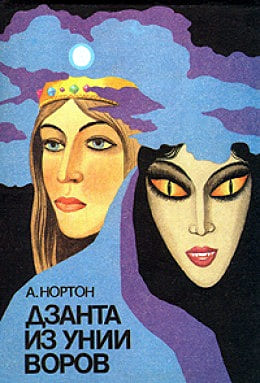

 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна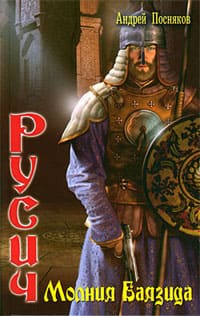 Посняков Андрей
Посняков Андрей Флинт Эрик
Флинт Эрик Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена