содержать семью, - сказала Милли. - По-моему, он для того и учится, чтоб
потом было чем заработать кусок хлеба. Я уж давно вижу, что он все силы
кладет на ученье и во всем себе отказывает. Да что же это, до чего темно!
Что-то дрожь пробирает, и на душе нехорошо. Где сын мой Уильям? Уильям,
сынок, подкрути-ка фитиль в лампе да подбрось угля в камин!
сказала совсем про себя), он задремал и во сне все что-то бормотал про
кого-то, кто умер, и про какую-то тяжкую обиду, которую нельзя забыть; но
кого это обидели, его или кого другого, не знаю. Только, если кто и обидел,
так уж верно не он.
Уильям, - даже если миссис Уильям пробудет тут у вас до следующего нового
года, сама она все равно не скажет, сколько добра она сделала бедному
молодому человеку. Господи, сколько добра! Дома все как всегда, отец мой в
тепле и холе, нигде ни соринки не сыщешь даже за пятьдесят фунтов наличными,
и как ни погляди, миссис Уильям вроде бы всегда тут... а на самом деле
миссис Уильям все бегает да бегает взад и вперед, взад и вперед, и хлопочет
о нем, будто о родном сыне!
за креслом.
часов не прошло)по дороге домой миссис Уильям видит на улице мальчишку - не
мальчишку, а прямо какого-то звереныша, сидит он на чужом крыльце и дрожит
от холода. Как поступает миссис Уильям? Подбирает этого ребенка и приводит
его к нам, и согревает, и кормит, и уж не отпустит до утра рождества, когда
у нас по обычаю раздают бедным еду и теплое белье. Можно подумать, что он
отродясь не грелся у огня и даже не знает, что это такое: сидит у нас в
сторожке и смотрит на камин во все глаза, никак не наглядится. По крайней
мере он там сидел, - подумав, поправился мистер Уильям, - а теперь, может
быть, уже и удрал.
вам, Уильям. Я должен обдумать, как тут быть. Может быть, я все-таки решу
навестить этого студента. Не стану вас больше задерживать. Доброй ночи!
старик. - И за Мышку, и за сына моего Уильяма, и за себя. Где сын мой
Уильям? Возьми фонарь, Уильям, ты пойдешь первый по этим длинным темным
коридорам, как в прошлом году и в позапрошлом, а мы за тобой. Ха-ха, я-то
все помню, хоть мне и восемьдесят семь! "Боже, сохрани мне память!" Очень
хорошая молитва, мистер Редлоу, ее сочинил ученый джентльмен с острой
бородкой и в брыжах - он висит вторым по правую руку над панелями, там, где
прежде, пока наши незабвенные десять джентльменов не порешили по-новому со
стипендией, была большая трапезная. "Боже, сохрани мне память!" Очень
хорошая молитва, сэр, очень благочестивая. Аминь! Аминь!
затворилась за ними, по всему дому загремело нескончаемое раскатистое эхо. И
в комнате стало еще темнее.
тогда ярко-зеленый остролист на стене съежился, поблек - и на пол осыпались
увядшие, мертвые ветки.
было всего темнее. И постепенно они стали напоминать - или из них возникло
благодаря какому-то сверхъестественному, нематериальному процессу, которого
не мог бы уловить человеческий разум и чувства, - некое пугающее подобие его
самого.
кровинки - но те же черты, те же блестящие глаза и седина в волосах, и даже
мрачный наряд - точная тень одежды Редлоу, - таким возникло оно, без
движения и без звука обретя устрашающую видимость бытия. Как Редлоу оперся
на подлокотник кресла и задумчиво глядел в огонь, так и Видение, низко
наклонясь над ним, оперлось на спинку его кресла, и ужасное подобие живого
лица было точно так же обращено к огню с тем же выражением задумчивости.
Вот он, страшный спутник одержимого!
Редлоу - его. Откуда-то издалека с улицы доносилась музыка, там пели
рождественские гимны, и Редлоу, погруженный в раздумье, казалось,
прислушивался. И Видение, кажется, тоже прислушивалось.
музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи.
лик можно назвать лицом; оба все еще смотрели в огонь, словно не замечая
друг друга. Но вот одержимый внезапно обернулся и в упор посмотрел на
привидение. Оно столь же внезапно вышло из-за кресла и в упор посмотрело на
Редлоу. Так могли бы смотреть друг на друга живой человек и оживший мертвец,
в котором он узнал бы самого себя. Ужасна эта встреча в глухом, пустынном
углу безлюдного старого здания, в зимнюю ночь, когда ветер, таинственный
путник, со стоном проносится мимо, а куда и откуда - того не ведала ни одна
душа с начала времен, и несчетные миллионы звезд сверкают в вечных
пространствах, где наша земля - лишь пылинка, и ее седая древность -
младенчество.
бедняком, одиноким и всеми забытым, кто боролся и страдал, и вновь боролся и
страдал, пока с великим трудом не добыл знание из недр, где оно было
сокрыто, и не вытесал из него ступени, по которым могли подняться мои
усталые ноги.
беззаветной материнской любви, ни мудрых отцовских советов. Когда я был еще
ребенком, чужой занял место моего отца и вытеснил меня из сердца моей
матери. Мои родители были из тех, что не слишком утруждают себя заботами и
долг свой скоро почитают исполненным; из тех, кто, как птицы - птенцов, рано
бросают своих детей на произвол судьбы, - и если дети преуспели в жизни,
приписывают себе все заслуги, а если нет - требуют сочувствия.
вызов взглядом, и голосом, и улыбкой.
Я нашел его, завоевал его сердце, неразрывными узами привязал его к себе. Мы
работали вместе, рука об руку. Всю любовь и доверие, которые в ранней юности
мне некому было отдать и которых я прежде не умел выразить, я принес ему в
дар.
кресла, оперлось на них подбородком и, заглядывая сверху в лицо Редлоу
пронзительным взором, словно источавшим пламя, продолжало:
очага, тепло и свет исходили от нее. Какая она была юная и прекрасная, какое
это было нежное, любящее сердце! Когда у меня впервые появилась своя жалкая
крыша над головой, я взял ее к себе - и мое бедное жилище стало дворцом! Она
вошла во мрак моей жизни и озарила ее сиянием. Она и сейчас предо мною!
музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи, - отозвался Редлоу.
задумчивой речи. - Пожалуй, когда-то любил. Да, конечно. Но лучше бы ей
любить его меньше - не так скрытно и нежно, не так глубоко; лучше бы не
отдавать ему безраздельно все свое сердце!
поднял руку. - Дай мне вычеркнуть все это из памяти!
холодными, немигающими глазами, продолжал:
самоотверженно, как она, родилась и в моем сердце, - продолжало Видение. - Я
был слишком беден тогда и жребий мой слишком смутен, я не смел какими-либо
узами обещания или мольбы связать с собою ту, которую любил. Я и не
добивался этого - я слишком сильно ее любил. Но никогда еще я не боролся так
отчаянно за то, чтобы возвыситься и преуспеть! Ведь подняться хотя бы на
пядь - значило еще немного приблизиться к вершине. И, не щадя себя, я
взбирался все выше. В ту пору я работал до поздней ночи, и в минуты
передышки, уже под утро - когда сестра, моя нежная подруга, вместе со мною
засиживалась перед остывающим очагом, где угасали в золе последние угольки,
- какие чудесные картины будущего рисовались мне!
Они вновь являются мне в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом
безмолвии ночи, в круговороте лет.


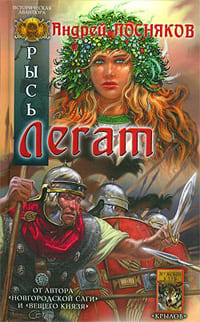

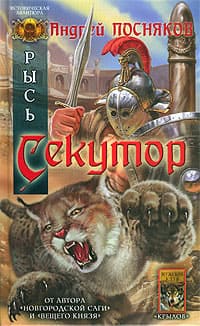

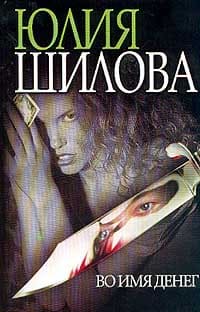 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий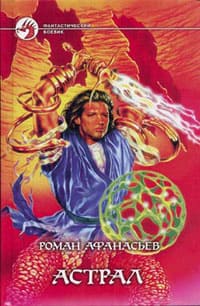 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман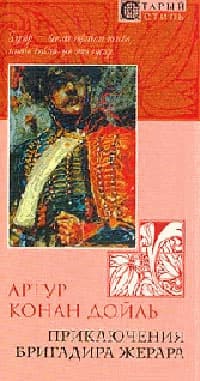 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Верещагин Олег
Верещагин Олег Посняков Андрей
Посняков Андрей