дверь и просовывая голову в щель, - что я такой говорун!
ГЛАВА IX
хвастуна, прежде нежели хвастун сам это обнаружит. Мистер Баундерби считал,
что со стороны миссис Спарсит было наглостью лезть вперед и пытаться
выставить себя умнее его. Он не мог простить ей завершенное с таким блеском
раскрытие тайны, витавшей вокруг миссис Пеглер, и мысль о том, что это
позволила себе женщина в зависимом от него положении, постоянно вертелась в
его голове, разрастаясь с каждым оборотом, как снежный ком. В конце концов
он пришел к выводу, что если он рассчитает столь высокородную особу и,
следственно, повсюду сможет говорить: "Это была женщина из знатной семьи, и
она не хотела уходить от меня, но я не пожелал оставить ее и выпроводил
вон", - то это будет вершина той славы, которую он извлек из своего
знакомства с миссис Спарсит, а заодно она понесет заслуженную кару.
своей столовой, где, как в былые дни, висел его портрет. Миссис Спарсит
сидела у камина, сунув ногу в стремя, не подозревая о том, куда она держит
путь.
мистеру Баундерби дымкой покаянной меланхолии. В силу этого лицо ее
постоянно выражало глубокое уныние, и такое именно унылое лицо она теперь
обратила к своему принципалу.
Баундерби.
меня, как будто вы намерены откусить мне нос.
явно давая понять, что для этого нос миссис Спарсит слишком сильно развит.
Бросив сей язвительный намек, он отрезал себе корочку хлеба и так швырнул
нож, что он загремел о тарелку.
уставились?
рассердило нынче утром?
голосе, - уж не я ли имела несчастье вызвать ваш гнев?
того, чтобы меня задирали. Какое бы знатное родство ни было у женщины,
нельзя ей позволить отравлять жизнь человеку моего полета, и я этого не
потерплю (мистер Баундерби стремительно шел к своей цели, ибо предвидел, что
если дело дойдет до частностей, то ему несдобровать).
собрала свое рукоделие, уложила его в рабочую корзинку и встала.
минуту мое присутствие вам неугодно. Поэтому я удаляюсь в свои покои.
мимо нее к двери и берясь за ручку. - Я хочу воспользоваться случаем и
сказать вам несколько слов, прежде нежели вы уйдете. Миссис Спарсит,
сударыня, мне, знаете ли, сдается, что вы здесь слишком стеснены. Я так
полагаю, что под моим убогим кровом мало простора для вашего несравненного
дара вынюхивать чужие дела.
сказала:
происшествий, - продолжал Баундерби, - и по моему скромному разумению...
умаляйте своего разумения. Всем известно, что мистер Баундерби никогда не
совершает ошибок. Каждый мог в этом убедиться. Вероятно, повсюду только о
том и говорят. Можете умалять любые свои качества, сэр, но только не свое
разумение, - громко смеясь, сказала миссис Спарсит.
лучше подойдет особе, наделенной столь острым умом, как ваш. Скажем, к
примеру, в доме нашей родственницы, леди Скэджерс. Как вы считаете,
сударыня, найдутся там дела, в которые стоило бы вмешаться?
Спарсит, - но теперь, когда вы упомянули об этом, я готова согласиться с
вами.
засовывая в ее корзиночку конверт с вложенным в него чеком. - Я вас не
тороплю, сударыня; но, быть может, в оставшиеся до вашего отбытия дни столь
одаренной, как вы, особе приятнее будет вкушать свои трапезы в уединении и
без помех. Я, откровенно говоря, и то чувствую себя виноватым перед вами, -
я ведь всего только Джосайя Баундерби из Кокстауна, и так долго навязывал
вам свое общество.
этот портрет умел говорить, - но он выгодно отличается от оригинала тем, что
не способен выдавать себя и внушать другим людям отвращение, - он рассказал
бы вам, что много времени протекло с тех пор, как я впервые стала, обращаясь
к нему, называть его болваном. Что бы болван ни делал - это никого не может
ни удивить, ни разгневать; действия болвана могут вызвать только
пренебрежительный смех.
медали, выбитой в память ее безмерного презрения к мистеру Баундерби,
окинула его сверху вниз уничтожающим взглядом, надменно проследовала мимо
него и поднялась к себе. Мистер Баундерби притворил дверь и стал перед
камином, как встарь, раздувшись от спеси, вглядываясь в свой портрет... и в
грядущее.
ход весь запас колющего оружия из женского арсенала, день-деньской сражается
с ворчливой, злобной, придирчивой и раздражительной леди Скэджерс, все так
же прикованной к постели по милости своей загадочной ноги, и проедает свои
скудные доходы, которые неизменно иссякают к середине квартала, в убогой,
душной каморке, где и одной-то не хватало места, а теперь было тесно, как в
стойле. Но видел ли он более того? Мелькнул ли перед ним его собственный
образ, видел ли он самого себя, превозносящим перед посторонними Битцера,
этого многообещающего молодого человека, который столь горячо почитает
несравненные достоинства своего хозяина и теперь занимает должность
Тома-младшего, после того как он чуть не изловил самого Тома-младшего в ту
пору, когда некий мерзавцы увезли беглеца? Видел ли, как он, одержимый
тщеславием, составляет завещание, согласно которому двадцать пять
шарлатанов, достигшие пятидесяти пяти лет, нарекшись Джосайя Баундерби из
Кокстауна, должны постоянно обедать в клубе имени Баундерби, проживать в
подворье имени Баундерби, сквозь сон слушать проповеди в молельне имени
Баундерби, кормиться за счет фонда имени Баундерби и пичкать до тошноты всех
людей со здоровым желудком трескучей болтовней и бахвальством в духе
Баундерби? Предчувствовал ли он, хотя бы смутно, что пять лет спустя
настанет день, когда Джосайя Баундерби из Кокстауна умрет от удара на одной
из кокстаунских улиц, и начнется долгий путь этого бесподобного завещания,
отмеченный лихоимством, хищениями, подлогами, пустопорожней суетой,
человеческой гнусностью и юридическим крючкотворством? Вероятно, нет. Но
портрету его суждено было стать тому свидетелем.
своем кабинете. Многое ли он провидел в грядущем? Видел ли он себя
седовласым дряхлым стариком, старающимся приноровить свои некогда
непоколебимые теории к предопределенным жизнью условиям, заставить факты и
цифры служить вере, надежде и любви, не пытаясь более перемалывать этих
благостных сестер на своей запыленной убогой мельнице? Чуял ли он, что по
этой причине он навлечет на себя осуждение своих недавних политических
соратников? Предугадывал ли, как они - в эпоху, когда окончательно решено,
что государственные мусорщики имеют дело только друг с другом и не связаны
никаким долгом перед абстракцией, именуемой Народом, - пять раз в неделю, с
вечера и чуть ли не до рассвета, будут язвительно упрекать "достопочтенного
джентльмена" в том, в другом, в третьем и невесть в чем? Вероятно, да, ибо
хорошо знал их.
но в лице ее теперь было больше доброты и смирения. Много ли из того, что
сулило ей грядущее, вставало перед ее мысленным взором? Афиши по городу,
скрепленные подписью ее отца, где он свидетельствовал, что с доброго имени
покойного Стивена Блекпула, ткача по ремеслу, смывается пятно несправедливых
наветов и что истинный виновник его, Томаса Грэдграйнда, родной сын,
которого он просит не осуждать слишком сурово, ввиду его молодости и
соблазна легкой поживы (у него не хватило духу прибавить "и полученного
воспитания"), - это все было в настоящем. И камень на могиле Стивена
Блекпула с надписью, составленной ее отцом, объясняющей его трагическую
гибель, - это было почти настоящее, ибо она знала, что так будет. Все это






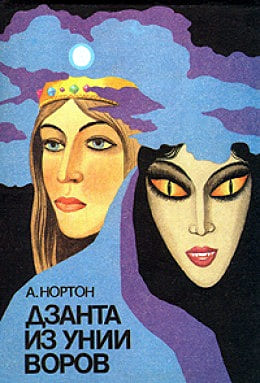 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Березин Федор
Березин Федор Шилова Юлия
Шилова Юлия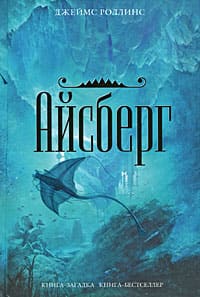 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс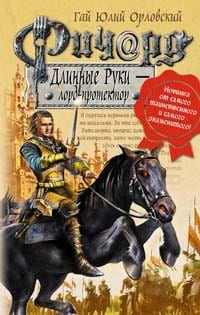 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий