они молча шли рядом по пустому молчаливому городу, и Дима вспоминает теперь,
как это было: четкие звуки шагов, ее дыхание - неуловимое для другого, но
слышимое Димой, - невесомое, вроде бы, но меж тем постоянно меняющее цвет -
или как это еще сказать? - в зависимости оттого, что она думает. Нет, Дима
не умеет читать мыслей, но чувствует их, поэтому, хотя и не сказала Эльвира
ни слова на протяжении всего пути, ему кажется, что они много и хорошо
говорили, он ведь, как и она, беспрерывно менял мысли, хотя и не понимал, о
чем думает, свое дыхание он тоже ведь чувствует - и не только дыхание, он с
точностью до удара в минуту знает всегда, какое у него сердцебиенье, он
видит, какими становятся его глаза от того, на синее он смотрит, на желтое
или вообще на коричневое, - и понимает, что эта сверхчувствительность
самоощущения, приятная сейчас, может стать для него источником многих
тягостных переживаний в старости, - но старость далеко - или, скорее всего,
- никогда.
важном и серьезном. Нет, не о себе, не о своей влюбленности. Не поговорил о
Денисе Ивановиче. А давно пора, давно уже пора, ему пора сказать, а ей пора
послушать.
слезы, они не наполняли бы глаза (и придется вытирать, отвлекаться), а
стекали бы сами по себе.
прислонившись к забору, на улице Ульяновской, где сохранились еще старые
деревянные частные дома, из такого дома и слышалась музыка, гитарная чистая,
частая, искусная, задушевная музыка. Он, бродя по улицам, случайно оказался
здесь. Он думал, что это радио. Но вдруг музыка оборвалась, послышались
голоса, смех, а потом - уже другая музыка. Значит, это живой человек играет
на живой гитаре, поразился Дима, и кто-то, счастливый, слушает в
непосредственной близости! Дима стеснительный человек - но не тогда, когда
восхищен чем-то. Поэтому он сомнамбулически открыл калитку, пошел на звуки -
в сад, увидел группу разных людей за дощатым столиком, и возле столика, и
просто на траве, а на ящике каком-то сидел гитарист и играл.
кураже), некоторые слушатели, хоть и были явно поклонники таланта, слегка
приустали, вот один парень с черными очами наклонился, что-то кому-то
говоря, Дима показал ему кулак, парень усмехнулся.
уложил гитару в футляр. Дима подошел к нему, схватил его руку и поцеловал
коротко и сильно - навсегда.
кто покорил его безоговорочно, полностью.
проверил его слух и сказал, что лучшее, чего может достигнуть Дима, -
аккуратно играть несложные пьесы - любительски. Захочет - станет и мастером,
но все его мастерство сведется к умению не сбиться за полчаса или час
непрерывной игры, не сфальшивив и не пропустив ни одной ноты.
мог сносно сыграть довольно сложную пьесу Апподижелли "Вечерний закат".
Сложную - и красивую. Начиная ее, Дима волновался, к середине слезы начинали
струиться из глаз, а к финалу он тихо ревел в три ручья, беря звучные
аккорды, прощаясь с мелодией.
"Вечерним закатом", доведя исполнение до блистательности, до волшебной
легкости - и непременно при этом плакал. Он боялся, что если возьмется
играть что-то другое, то душа, без того наполненная "Вечерним закатом", не
выдержит. Нет, с него хватит! - и он вновь и вновь извлекал из струн
божественные звуки Апподижелли. И Денис Иванович никогда не уставал его
слушать, а однажды сказал: "Знаешь, я, пожалуй, оказался не прав. Ты добился
невероятного. Ты играешь эту вещь лучше всех в мире. Только эту вещь - но
лучше всех в мире. А может, в этом и суть - делать что-то одно, но лучше
всех в мире. У меня такого нет. Но мне и не нужно".
оркестре народных инструментов при филармонии. Но пришли времена, когда
отпала необходимость повсеместно в оркестрах народных инструментов, как и в
ансамблях народных песен и плясок, как и во всем прочем народном вообще,
Денис Иванович остался без заработка. Спервоначала он кормился выступлениями
сольными - от той же филармонии. Ездил, куда пошлют: и в глубинку, в
районный Дворец какой-нибудь культуры, и в пионерские лагеря, и в лагеря
исправительно-трудовые, а то и вообще в тюрьмы строгого режима. Надо
сказать, что лучшая публика была у него именно в тюрьмах. В других
аудиториях его изысканный репертуар наводил, если честно, иногда скуку,
публика помаленьку рассасывалась, где вежливо, потихоньку, а где и не таясь,
топая ногами и хлопая сиденьями клубных деревянных кресел. Приходилось или
игнорировать - или ублаготворять народ любимым произведением
"полонезогинского". В тюрьме же тон задавали воровские авторитеты, которые,
принципиально ненавидя всякий подневольный труд, в искусстве Дениса
Ивановича видели именно искусство. Ловкость пальцев, бегающих по струнам и
ладам, дробность переборов напоминали им искусство собственное, воровское, в
котором тоже важны безошибочность, спорость, четкость - а в финале именно
такое торжество полнозвучных аккордов, какое раздается в руках Дениса
Ивановича, клокочет в теле гитары. Они уважали мастерство - и не дай бог
кому-то из мелкоты шаловливо крикнуть музыканту: "Цыганочку давай!" -
авторитеты пресекали хулиганство коротким взглядом, кратким словом, крепким
кулаком.
областного масштаба, репертуар его расширился, помимо "полонезогинского",
инструментовками романсов и современных популярных песен, несколько раз
Денис Иванович попробовал спеть - и не без успеха. Однажды после концерта к
нему подошла женщина. Судя по лицу, лет под шестьдесят. Где ночуете,
спросила. В районной гостинице, ответил Денис Иванович. Начхайте на нее, у
меня дома перины, уют, а хочете - на сеновале, сеновал просторный, как
иродром. Перины и уют для Дениса Ивановича не внове, а вот сеновала,
просторного, как иродром, захотелось. И теплого хлеба в придачу, и парного
молока кружку. А там, глядишь, у доброй старушки дочка окажется или даже
внучка - и очарует он ее своей игрой, и... Но ни дочки, ни внучки не было,
женщина жила одна. Не было и парного молока с теплым хлебом. То есть хлеб
был, свежий, мягкий, но, надо ж быть точным, не теплый. Зато была пахучая,
не противная самогонка и ломти бочкового соленого арбуза - такого
необыкновенного в своей приятности вкуса, что Денис Иванович ел и не мог
накушаться, выпитым стопкам самогона счет потерял, но хмеля не чувствовал.
Глядя в добрые глаза пожилой женщины, он взял гитару и начал ей играть
печальное, любимое: Второй концерт Геслера, транскрипция Иванова-Крамского.
Женщина слушала не подшибив скулу рукой, не утирая глаза кончиком платка,
она легла на сеновале по-молодому, гибко и упруго, что Дениса Ивановича
удивило. Удивило, встревожило. Он даже чуть не сбился в одном месте. Но
доиграл, выпил самогону, крякнул прилично-негромко, откусил кусочек арбуза,
сплюнул черное скользкое семечко и сердечно спросил:
кожу Евдокии Андреевны, оглядывал стройность ее тела и говорил:
что стара, да-щь некрасива! Че там!
очертаниям вашим больше двадцати лет никак не дашь!
Иванович, боясь, что обидел ее.
ж раньше мне никто этого не сказал? Я б, может, по-другому себя вела бы в
этой жизни! А то знаю про себя: уродина, - и больше ничего не знаю. А про
тело мое никто мне никогда ничего не говорил. Если что было - то в темноте,
наскоро, наш мужик скорость любит, потому что женатый в своем большинстве.
фигуряла, обнаженная, перед большим зеркалом зеркального шкафа,
рассматривала себя, внимательно при этом поглядывая на Дениса Ивановича - не
смеется ли, зараза городская? Нет, не смеется, с восторгом смотрит!..
Дениса Ивановича в дорогу так, как собирают бабы своих мужей на войну:
тяжело, молча, хлопотливо, бесслезно. В жар кинет: убьют, убьют, не
вернется! Холод замкнет сердце заранее терпением и надеждой: не убьют, не
убьют, не хочу!




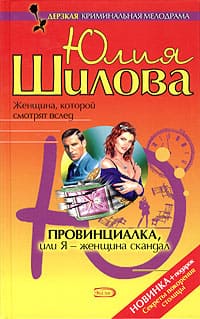

 Корнев Павел
Корнев Павел Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав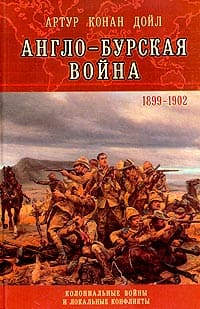 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Василенко Иван
Василенко Иван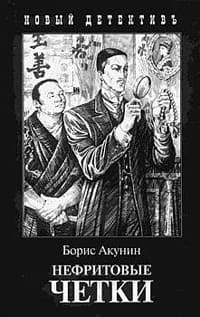 Акунин Борис
Акунин Борис Зыков Виталий
Зыков Виталий