упражнения для рук, а Клайд, все еще не овладевший собой, старался стоять
на том же месте, повторяя чуть не вслух: "Нам нельзя распускаться, иначе
здесь совсем с ума сойдешь". Справедливые слова, разве не почувствовал он
это в первую же свою ночь в тюрьме? Именно сойдешь с ума. Или замучит
насмерть постоянное созерцание чужих трагедий, их страшная, разрушительная
сила. Но долго ли ему придется это терпеть? Надолго ли хватит у него сил?
мрачно, как ему показалось сначала; не все в нем сплошной ужас, по крайней
мере внешне. В самом деле, несмотря на близость смерти, тяготевшую над
каждым обитателем, здесь шутили, смеялись, насмешничали, даже играли,
спорили на все мыслимые темы - от смерти до женщин и спорта, состязались в
разных видах остроумия или его отсутствия, - все это применительно к
довольно низкому общему уровню развития.
прогулку, принимались обычно за шашки или карты. Это не значит, что
играющие выходили из своих камер и усаживались вдвоем за одной доской или
сдавали партнерам карты из одной колоды: нет, просто тюремщик вручал
каждому любителю шашек доску, но без фигур. В них не было надобности. Один
из игроков объявлял ход; f2-e1. Горизонтальные ряды клеток обозначались
цифрами, а вертикальные - буквами. Ходы отмечали карандашом.
отразился на его положении, в свою очередь, объявлял: e7-f5. Если
находились охотники принять участие в игре на стороне того или иного из
сражающихся, каждому тоже приносили доску и карандаш. И тогда можно было
услышать голос, скажем, "Коротышки" Бристола, заинтересованного в победе
"Голландца" Сунгхорта, который сидел за три камеры от него:
промаха или удачи. Так же играли и в карты. Здесь тоже каждый партнер
оставался запертым у себя в камере, однако интерес игры от этого не
страдал.
длившейся часами. За исключением одного только Николсона, все кругом
изощрялись в непристойных и даже оскорбительных выражениях, которые резали
его слух. К Николсону его тянуло. Спустя некоторое время ему стало
казаться, что близость адвоката, дружеские беседы с ним во время прогулки,
когда они попадали в одну группу, помогут ему вынести все это. Николсон
был самым интеллигентным, самым" приличным из всех обитателей тюрьмы.
Остальные резко отличались от него: они либо угрюмо молчали, либо - что
случалось чаще - говорили, но их речи казались Клайду слишком мрачными,
грубыми или непонятными.
начал чувствовать себя немного тверже, но вот наступил день, назначенный
для казни Паскуале Кутроне, итальянца из Бруклина, который убил родного
брата за то, что тот пытался соблазнить его жену. Паскуале занимал одну из
камер у скрещения коридоров, и Клайд слышал, что от страха он несколько
помутился в уме. Во всяком случае, его никогда не выводили на прогулку
вместе с остальными. Но Клайду хорошо запомнилось его лицо, которое он
видел, проходя мимо, - жуткое, исхудалое лицо, как бы разрезанное натрое
двумя глубокими бороздами - тюремными складками горя, - шедшими от глаз к
углам рта.
молиться и молился, не переставая, день и ночь. Потом оказалось: его
предупредили, что ему предстоит умереть на следующей неделе. После этого
он стал ползать по камере на четвереньках, целовать пол и лизать ноги
Христа на небольшом бронзовом распятии. Несколько раз навещали его брат и
сестра, только что приехавшие из Италии, и для свидания с ними его водили
в старый Дом смерти. Но кругом шептались, что помраченный разум Паскуале
уже не может воспринять никаких родственных утешений.
камере и бормотал молитвы, и те из заключенных, которые не могли уснуть и
читали, чтобы скоротать время, должны были беспрестанно слушать его
бормотанье и постукиванье четок, на которых он отсчитывал бесчисленные
"Отче наш" и "Богородице, дево, радуйся".
жалобный голос: "О господи, хоть бы он поспал немного!" И снова глухой
стук земного поклона - и снова молитва, и так до самого кануна казни,
когда Паскуале перевели в старый Дом смерти, где, как Клайд узнал позднее,
происходили последние прощания, если было с кем прощаться. Кроме того,
осужденному предоставлялось несколько часов покоя и уединения, чтобы он
мог приготовить свою душу к свиданию с творцом.
Дома. Почти никто не прикоснулся к ужину, о чем говорили унесенные
подносы. В камерах царила тишина, кое-кто молился вполголоса, зная, что и
ему в недалеком будущем предстоит та же участь. Потом с одним итальянцем,
осужденным за убийство сторожа в банке, сделался нервный припадок: он стал
кричать, разломал свой стул и стол о прутья решетки, в клочья изодрал
простыни на постели и даже пытался удавиться, но его связали и унесли в
другое отделение тюрьмы, где врач должен был установить его вменяемость.
твердили молитвы, а некоторые звали тюремщиков и требовали, чтоб те навели
порядок. А Клайд, который никогда еще не переживал и не представлял себе
ничего подобного, дрожал неуемной дрожью от страха и отвращения. Всю эту
ночь, последнюю ночь жизни Паскуале Кутроне, он лежал на койке, отгоняя
кошмары. Вот, значит, какова здесь смерть: люди кричат, молятся, сходят с
ума, но страшное действо, несмотря ни на что, совершается своим чередом. В
десять часов, чтобы успокоить тех, кто еще оставался жить, принесли
холодную закуску, но никто не стал есть, кроме китайца, что сидел напротив
Клайда.
выполняя свою страшную обязанность, бесшумно появились в центральном
коридоре и задернули тяжелые зеленые занавеси перед решетками камер, чтобы
никто не увидел, как роковая процессия пройдет из старого Дома смерти в
комнату казней. Но, несмотря на эту предосторожность, Клайд и все
остальные проснулись при первом же звуке.
которых страх, раскаяние или врожденное религиозное чувство побуждали
искать защиты и утешения в вере, стояли на коленях и молились. Остальные -
кто просто шагал по камере, кто бормотал что-то про себя. А другие
вскрикивали порой, не совладав с лихорадочным приступом ужаса.
той комнате, убьют человека. Стул, этот стул, который с первого дня стоял
перед ним неотвязным кошмаром, он здесь, совсем близко. Но ведь и мать и
Джефсон говорили, что его срок наступит еще очень нескоро, если только...
если вообще наступит... если... если...
стукнула дверь камеры. А это отворяется дверь старого Дома, - совершенно
ясно, потому что теперь стал слышен голос, голоса... пока еще только
смутный гул. Вот еще голос, более отчетливый, будто кто-то читает молитву.
Зловещее шарканье подошв - процессия движется по коридору.
обо мне! Ангел-хранитель, моли бога обо мне!
Святой Амвросий, моли бога обо мне! Все святые и ангелы, молите бога обо
мне!
мне!
напутствовал его словами молитвы. А тот, говорили, давно не в своем уме.
Но ведь вот и его голос тоже слышится. Да, его. Клайд узнал этот голос. За
последнее время он достаточно часто его слышал. Вот сейчас отворится та,
другая дверь. Он заглянет туда - человек, осужденный умереть, - так скоро,
так скоро... увидит... все увидит... этот шлем... эти ремни. О, Клайд уже
хорошо знает, какие они на вид, хотя ему, может быть, никогда не придется
надеть их... может быть...
неподалеку. Клайд не мог определить, из какой именно. - Счастливого пути в
лучший мир!
по-английски!
наверно, привязывают ремнями. Спрашивают, не хочет ли он сказать еще
что-нибудь, - он, который не в своем уме. Теперь, наверно, ремни уже
закрепили. Надели шлем. Еще миг, еще один миг, и...
камерах, в коридорах, во всей тюрьме вдруг мигнули: по чьей-то глупости
или недомыслию электрический стул получал ток от той же сети, что и
освещение. И сейчас же кто-то отозвался:
третий.
шепчет молитву. Но Клайда бьет страшная, леденящая дрожь. Он не смеет даже
думать, не то что плакать. Значит, вот как это бывает... Задергивают






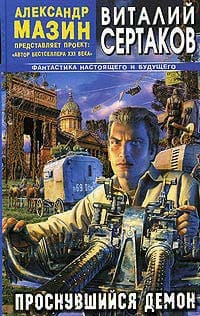 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Круз Андрей
Круз Андрей Каменистый Артем
Каменистый Артем Орлов Алекс
Орлов Алекс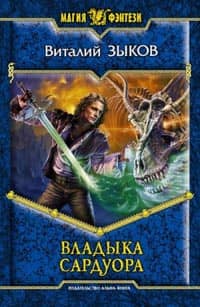 Зыков Виталий
Зыков Виталий Андреев Николай
Андреев Николай