Дафна Дю Морье
Козел отпущения
ГЛАВА 1
по-прежнему лил как из ведра. Он не прекращался с самого утра, и
единственное, что я мог увидеть в этих любимых мною местах, было блестящее
полотно шоссе, пересекаемое мерными взмахами .
еще более обострилась. Это было неизбежно, как всегда в последние дни
отпуска, но сейчас я сильнее, чем раньше, ощущал бег времени, и не потому,
что дни мои были слишком наполнены, а потому, что не успел ничего достичь.
Не спорю, заметки для моих будущих лекций в осенний семестр были достаточно
профессиональными, с точными датами и фактами, которые впоследствии я облеку
в слова, способные вызвать проблеск мысли в вялых умах невнимательных
студентов. Но истинный смысл истории ускользал от меня, потому что я никогда
не был близок к живым людям. Я предпочитал погрузиться в прошлое, наполовину
реальное, наполовину созданное воображеньем, и закрыть глаза на настоящее. В
Туре, Блуа, Орлеане -- городах, которые знал лучше других, -- я отдавался во
власть фантазии: видел другие стены, другие, прежние, улицы, сверкающие
фасады домов, на которых теперь крошилась кладка; они были для меня более
живыми, чем любое современное здание, на которое падал мой взгляд, в их тени
я чувствовал себя под защитой, а жесткий свет реальности обнажал мои
сомнения и страхи. Когда в Блуа я дотрагивался до темных от копоти стен
загородного замка, тысячи людей могли страдать и томиться в какой-нибудь
сотне шагов оттуда -- я их не замечал. Ведь рядом со мной стоял Генрих III,
надушенный, весь в брильянтах: бархатной перчаткой он слегка касался моего
плеча, а на сгибе локтя у него, точно дитя, сидела болонка; я видел его
вероломное, хитрое, женоподобное и все же обольстительное лицо явственней,
чем глупую физиономию стоящего возле меня туриста, который рылся в кармане в
поисках конфеты, в то время как я ждал, что вот-вот прозвучат шаги,
раздастся крик и герцог де Гиз упадет замертво. В Орлеане я скакал рядом с
Девой или поддерживал стремя, когда она садилась на боевого коня, и слышал
лязг оружия, крики и низкий перезвон колоколов. Я мог даже стоять подле нее
на коленях в ожидании Божественных Голосов, но до меня доносились лишь их
отзвуки, сами Голоса слышать мне было не дано. Я выходил, спотыкаясь, из
храма, глядя, как эта девушка в облике юноши с чистыми глазами фанатика
уходит в свой -- невидимый для нас мир, и тут же меня вышвыривало в
настоящее, где Дева была всего лишь статуя, я -- средней руки историк, а
Франция -- страна, ради спасения которой она умерла, -- родина живущих ныне
мужчин и женщин, которых я и не пытался понять.
предстояло читать в Лондоне, и сознание того, что не только во Франции, но и
в Англии я всегда был сторонним наблюдателем, никогда не делил с людьми их
горе и радости, нагнало на меня беспросветную хандру, ставшую еще тяжелее
из-за дождя, секущего стекла машины; поэтому, подъезжая к Ле-Ману, я, хоть
раньше не собирался делать там остановку и перекусывать, изменил свои планы,
надеясь, что изменится к лучшему и мое настроение.
собору, стояли в ряд грузовики и повозки с зеленым брезентовым верхом, а все
остальное пространство было заставлено прилавками и ларьками. В этот день
был, видимо, особенно большой торг, так как повсюду толпились во множестве
сельские жители, а в воздухе носился тот особый, ни с чем не сравнимый запах
-- смесь флоры и фауны, -- который издает только земля, красно-коричневая,
унавоженная, влажная, и дымящиеся, набитые до отказа загоны, где тревожно
топчутся на месте друзья по неволе -- коровы, телята и овцы. Трое мужчин
острыми вилами подгоняли вола к грузовику, стоявшему рядом с моей машиной.
Бедное животное мычало, мотало из стороны в сторону головой, обвязанной
веревкой, и пятилось от грузовика, переполненного его хрипящими и фыркающими
от страха собратьями. Я видел, как вспыхнули красные искры в его оторопелых
глазах, когда один из мужчин вонзил ему в бок вилы.
дальнем углу возле двери в кухню, и, пока ел горячий, сытный, тонувший в
соусе из зелени омлет, створки двери распахивались то вперед, то назад от
нетерпеливого толчка официанта с тяжелым подносом в руках, где высились одна
на другой тарелки. Сперва это зрелище подстегивало мой аппетит, но затем,
когда я утолил голод, это стало вызывать тошноту -- слишком много тарелок
картофеля, слишком много свиных отбивных. Когда я попросил принести кофе,
моя соседка по столу все еще отправляла в рот бобы; она плакалась сестре на
дороговизну жизни, не обращая внимания на бледненькую девочку на коленях у
мужа, которая просилась в toilette. Она болтала без умолку, и, чем дольше я
слушал -- единственный доступный мне отдых в те редкие минуты, когда я
выбрасывал из головы историю, -- тем сильнее грызла меня притихшая было
хандра. Я был чужак. Я не входил в их число. Годы учебы, годы работы,
легкость, с которой я говорил на их языке, преподавал их историю, разбирался
в их культуре, ни на йоту не приблизили меня к живым людям. Я был слишком
неуверен в себе, слишком сдержан и сам это ощущал. Познания мои были
книжными, а повседневный жизненный опыт -- поверхностным, он давал мне те
крупицы, те жалкие обрывки сведений, что подбирает в чужой стране турист.
и хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. Я
бродил бесцельно по улицам, и моя праздность, перебегающий с предмета на
предмет взгляд, сама одежда -- серые брюки из шерстяной фланели, изрядно
выношенный за долгие годы твидовый пиджак -- выдавали во мне англичанина,
затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке.
Все они -- и крестьяне, торгующиеся среди связок подбитых гвоздями сапог,
фартуков в черно- белую крапинку, плетеных домашних туфель, кастрюль и
зонтов; и идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской,
кудрявые, как барашки; и старухи, которые то и дело останавливались,
подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, скажем, камчатных
скатертей, и брели дальше, ничего не купив; и юноши в бордовых костюмах, с
иссиня-серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые
пялили глаза на девушек, подталкивая друг друга локтем, -- все они, когда
окончится этот день, вернутся в свои родные места -- домой.
где меня примут за француза и останутся в этом заблуждении, пока я не
предъявлю паспорт; тут последуют поклон, улыбка, любезные слова, и
сожалеюще, слегка пожимая плечами, портье скажет: , --
подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных
соотечественников с в руках, меняться с ними снимками, брать
взаймы книжки, одалживать им . И никогда эти служащие отеля, где
я провел ночь, не узнают, как не знают этого те, кого я сейчас обгоняю на
улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостно и собственное мое
общество, что, напротив, хотел бы я -- недоступное для меня счастье --
чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть
связанным с ними узами родства и крови, узами, которые для них понятны и
правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать
глубину их горя и преломлять с ними хлеб -- не подачку чужаку, а общий, их и
мой, хлеб.
магазины или пытались укрыться в автомобилях. В провинции не разгуливают под
дождем, разве что идут по делу, как вон те мужчины в широкополых фетровых
шляпах, которые с серьезным видом спешат в Prefecture с портфелем под
мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида
Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы неподалеку от префектуры.
В соборе было пусто, я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко
раскрытых неподвижных глазах; немного погодя в боковой придел, стуча
каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до голубизны статуей. И
тут, словно темная пучина поглотила мой рассудок, я почувствовал: если не
напьюсь сегодня, я умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско? Не моему
окружению, моему мирку, не тем немногим друзьям, которые думают, будто знают
меня, не тем, кто дает мне работу, не студентам, которые слушают мои лекции,
не служащим в Британском музее, которые любезно говорят мне
или , и не тем благовоспитанным, благожелательным, но до чего
же скучным лондонским теням, среди которых жил и добывал свое пропитание --
законопослушный, тихий, педантичный и чопорный индивидуум тридцати восьми
лет. Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему , которое настойчиво
требует освобождения. Как оно смотрит на мою жалкую жизнь?
стремления обуревают его, -- этого я сказать не мог. Я так привык его
обуздывать, что не знал его повадок; возможно, у него холодное сердце,
язвительный смех, вспыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в
однокомнатной, заваленной книгами квартире, не оно просыпается каждое утро,
зная, что у него ничего нет -- ни семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни
интересов, которые поглощали бы его целиком, ничего, что могло бы служить
жизненном целью или якорем спасения, ничего, кроме увлечения французской
историей и французским языком, которое -- по счастливой случайности --
позволяет мне как-то зарабатывать на хлеб.
бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало,
возможно, ненавидело бы, возможно, ни к кому не проявляло бы милосердия. Оно
могло бы красть, убивать... или отдавать все силы борьбе за благородное,




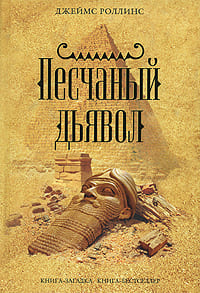

 Контровский Владимир
Контровский Владимир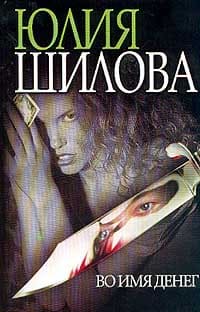 Шилова Юлия
Шилова Юлия Прозоров Александр
Прозоров Александр Елманов Валерий
Елманов Валерий Контровский Владимир
Контровский Владимир Сертаков Виталий
Сертаков Виталий