иностранных городов, и они приводили меня в состояние, близкое к отупению.
утомительной дороги? - но в мои сны вторгались чужие, непривычные звуки:
хлопанье дверей, визг, шаги под окнами, стук колес по булыжной мостовой и
повторяющийся каждые четверть часа звон церковного колокола. Возможно,
окажись я за границей с другой целью, все было бы иначе. Тогда, может быть,
я с легким сердцем открывал бы рано утром окно, разглядывал бы босоногих
детей, играющих в сточной канаве, бросал бы им монеты, как зачарованный
прислушивался бы к новым для себя голосам и звукам, бродил бы ночами по
узким улочкам и со временем полюбил бы их. Теперь же я на все смотрел
равнодушно, а то и враждебно. Меня привела сюда необходимость найти Эмброза.
достаточно, чтобы тревога вызвала во мне отвращение ко всему, связанному с
этой страной, к самой ее земле.
карета бесконечно петляла по пыльным дорогам Тосканы, и мне казалось, что
солнце выпило всю влагу из земли. Долины побурели от зноя; маленькие,
опаленные солнцем деревни желтыми пятнами лепились по склонам холмов,
плавающих в раскаленном мареве. Тощие, костлявые волы понуро бродили в
поисках воды, по обочинам дороги щипали траву облезлые козы, которых пасли
ребятишки, провожавшие дилижанс пронзительными криками, и мне, объятому
тревогой и страхом за Эмброза, казалось, что в этой стране все живое
страдает от жажды и, если не найдет глотка воды, погибает.
стал дожидаться, пока сгрузят и отнесут в гостиницу мой пропыленный багаж,
пересек мощенную булыжником улицу и остановился у реки. Я был измучен долгим
путешествием и с головы до пят покрыт дорожной пылью. Два последних дня я
сидел рядом с кучером, чтобы не задохнуться внутри, и, как те несчастные
животные у дороги, стремился к воде. И вот она передо мной. Но не
прозрачно-голубая бухта моих родных мест, подернутая зыбью,
солоновато-прохладная, искрящаяся брызгами под легкими порывами морского
ветра, а неторопливый, набухший поток, бурый, как речное дно; он медленно и
будто с трудом прокладывал себе путь под сводами моста, и время от времени
его ровная, глянцевая поверхность вздувалась пузырями. По реке плыли
всевозможные отбросы, пучки соломы, трава, листья, и тем не менее мое
воспаленное от усталости и жажды воображение рисовало нечто такое, что можно
испробовать, проглотить, выпить залпом, как выпивают яд.
лучи солнца заливали мост, и вдруг у меня за спиной гулко, торжественно
прозвучали четыре удара огромного колокола. К нему присоединились колокола
других церквей, и звон их слился с шумом реки, особенно громким в тех
местах, где она, бурая от ила, перекатывалась через камни.
дергал ее за рваную юбку. Она тянула руку за подаянием, с мольбой подняв на
меня свои темные глаза. Я дал ей монету и отвернулся, но она, что-то
бормоча, продолжала трогать меня за локоть, пока один из пассажиров, все еще
стоявший около почтовой кареты, не выпустил в нее целый заряд по-итальянски;
она отпрянула от меня и возвратилась на угол моста. Она была молода, не
старше девятнадцати лет, но на лице ее застыла печать вечности, тревожащая
память, словно в ее гибком теле обитала древняя как мир, неумирающая душа;
тьма времен смотрела из этих глаз, они так долго созерцали жизнь, что стали
равнодушны к ней. Немного позже, когда я поднялся в свою комнату и вышел на
маленький балкон над площадью, я увидел, как она протиснулась между лошадьми
и экипажами и притаилась, словно кошка, которая крадется в ночи, припадая к
земле.
цели путешествия, душу мою сковало тупое безразличие; того, кто отправился в
путь взволнованным, настроенным на самый решительный лад, готовым к любому
сражению, более не существовало. Его место занял усталый, павший духом
незнакомец. Волнение давно улеглось. Даже истертая записка в моем кармане
утратила реальный смысл. Она была написана несколько недель назад, с тех пор
могло многое случиться. Возможно, Рейчел увезла Эмброза из Флоренции,
возможно, они отправились в Рим, в Венецию, и я уже видел, как все в том же
душном, неуклюжем дилижансе тащусь вслед за ними. Переезжаю из города в
город, вдоль и поперек пересекаю эту проклятую страну и, нигде их не находя,
терплю поражение за поражением в схватке со временем и пыльными раскаленными
дорогами.
письма-каракули - просто нелепая шутка: Эмброз их так любил в годы моего
детства, и я часто попадал в расставленные им ловушки. Возможно, на вилле я
застану в самом разгаре званый обед или какое-нибудь торжество: множество
гостей, огни, музыку... Когда меня введут в залу, я ничего не смогу
объяснить, и Эмброз, живой и здоровый, с удивлением воззрится на меня.
стояли вдоль тротуаров, разъехались. Сиеста закончилась, и на улицах снова
бурлили толпы народа. Я нырнул в них и сразу затерялся. Меня окружали темные
дворики, переулки, высокие, подпирающие друг друга дома, балконы. Я шел
вперед, сворачивал, снова шел, а люди, стоявшие в дверях или проходившие
мимо, замирали и обращали ко мне лица - с тем же выражением древнего как
мир страдания и давно перегоревшей страсти, которое я впервые заметил в лице
нищенки. Некоторые шли за мной, как и она, бормоча и протягивая руку, но,
когда, вспомнив своего попутчика, я грубо отгонял их, отставали, прижимались
к стенам высоких домов и провожали меня взглядом, исполненным странной
тлеющей гордости. Снова призывно зазвонили колокола, и я вышел на огромную
площадь, где собралось множество людей; разбившись на группы, они
разговаривали, жестикулировали, и мне, чужестранцу казалось, что у них нет
ничего общего ни со зданиями, обрамляющими площадь, строгими и прекрасными,
ни со статуями, безучастно взирающими на них своими незрячими глазами, ни
даже с колокольным звоном, который громким пророческим эхом летит в небо.
Я не понял, что ответил кучер, но уловил слово , когда он кивнул и
показал кнутом в сторону. Мы ехали по узким, забитым толпою улицам; он
покрикивал на лошадь, щелкали вожжи, и люди расступались, давая дорогу
карете. Колокола смолкли и замерли вдали, но их отголосок все еще звучал у
меня в ушах; торжественные, величавые, они звонили не по моей миссии,
мелкой, ничтожной, не по жизни людей на улицах, но по душам давно умерших
мужчин и женщин, по вечности.
Флоренция осталась позади. Дома отступили. Всюду царили покой и тишина;
горячее яркое солнце, которое весь день палило над городом, превращая небо в
расплавленное стекло, вдруг стало мягким и ласковым. Ослепительное сияние
померкло. Желтые дома, желтые стены, даже бурая пыль перестали источать жар.
Дома вновь обрели цвет - возможно, блеклый, приглушенный, но в отсветах
истощившего силу солнца - более нежный и приятный для глаз. Стройные
неподвижные кипарисы стали чернильно-зелеными.
повернулся на козлах и через плечо сверху вниз посмотрел на меня. , - сказал он. Мое путешествие закончилось.
дернул шнурок колокольчика. За воротами раздался звон. Мой возница отвел
лошадь к обочине дороги, сошел с козел и, стоя у канавы, отгонял шляпой мух.
Лошадь, бедная заморенная кляча, поникла в оглоблях; после подъема у нее не
осталось сил даже на то, чтобы щипать траву на обочине, и она дремала, время
от времени прядая ушами. Из-за ворот не доносилось ни звука, и я снова
позвонил. На этот раз послышался приглушенный собачий лай; он усилился,
когда открылась какая-то дверь; раздраженный женский голос резко оборвал
капризный детский плач, и мой слух уловил звук шагов, приближающихся к
воротам с противоположной стороны. Лязг отодвигаемых засовов, скрежет железа
о камни - и ворота открылись. Меня внимательно разглядывала женщина в
крестьянской одежде. Подойдя к ней, я спросил:
громче. Передо мной лежала аллея, в конце которой я увидел саму виллу,
безжизненную, с закрытыми ставнями. Женщина сделала движение, словно
собираясь захлопнуть передо мною ворота, собака продолжала лаять, ребенок
снова заплакал. Щека женщины отекла и распухла, как будто у нее болели зубы,
и, чтобы унять боль, она прижимала к ней край шали.
впервые увидела мое лицо, и возбужденно заговорила, указывая на виллу. Затем
быстро повернулась и позвала кого-то из сторожки. В открытой двери показался
мужчина с ребенком на плече - очевидно, ее муж. Он унял собаку, на ходу
задавая вопросы жене. В стремительном потоке слов, который она обрушила на
мужа, я уловил слово , затем , и теперь уже он вздрогнул и
во все глаза уставился на меня. Мужчина выглядел более прилично: он был
опрятнее, у него были честные глаза, и, как только он взглянул на меня, на
его лице появилось выражение искреннего участия. Он что-то шепнул жене, и
она вместе с ребенком отошла к двери сторожки и оттуда смотрела на нас,
по-прежнему прижимая шаль к распухшему лицу.
Эшли на вилле?
могу сказать? Это очень печально, не знаю что и сказать... Синьор Эшли... он
умер три недели назад... Совсем неожиданно. Очень печально. Как только его
похоронили, графиня заперла виллу и уехала. Не знаем, вернется ли она.
кровь отлила у меня от лица. Я был потрясен. Мужчина с участием смотрел на
меня, затем сказал несколько слов жене, та принесла скамейку и поставила ее





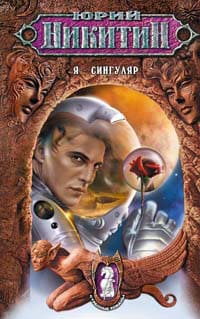
 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир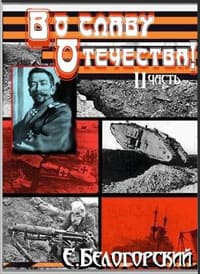 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений Каменистый Артем
Каменистый Артем Рыбаков Вячеслав
Рыбаков Вячеслав Майер Стефани
Майер Стефани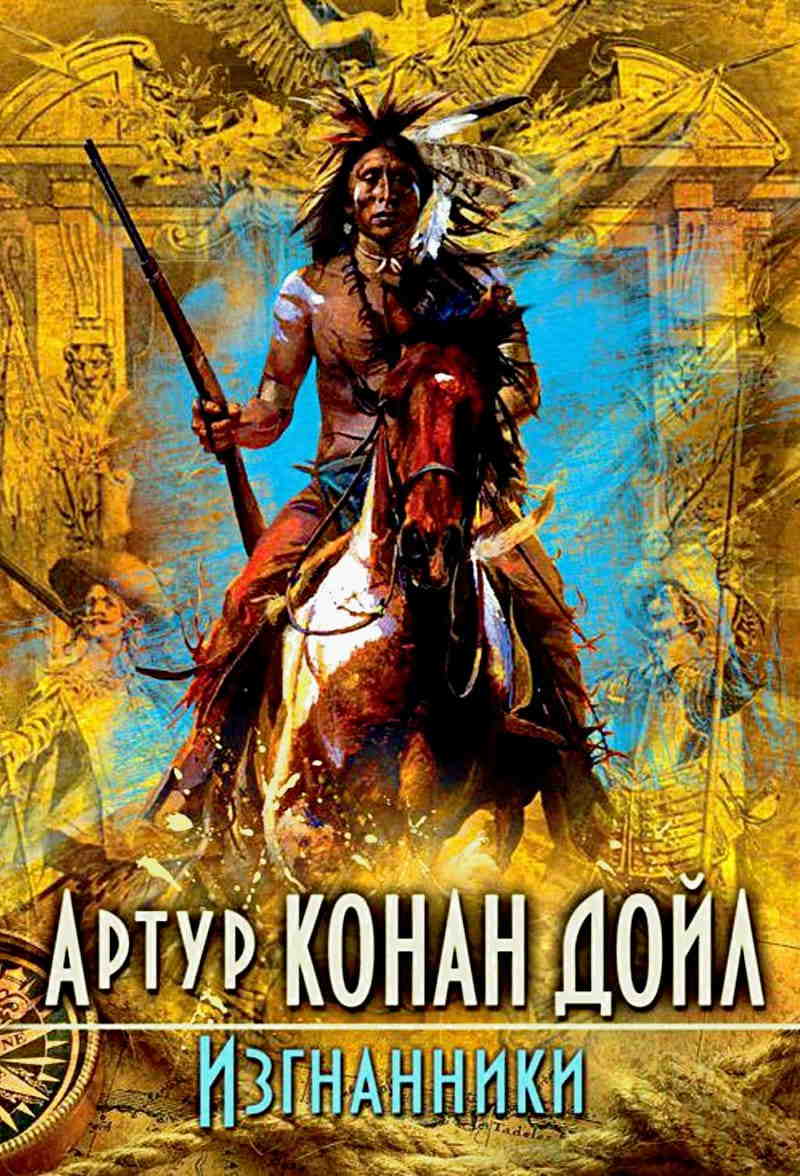 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур