жары и солнца, теперь, в ночи и безмолвии, обрела свободу.
теряется во тьме. В слабом, мигающем свете фонаря были видны пенисто- бурые
пузыри, то здесь, то там возникающие на воде. И вдруг поток вынес окоченелый
собачий труп. Медленно поворачиваясь, со всеми четырьмя лапами, поднятыми в
воздух, он проплыл под мостом и скрылся.
воздам женщине, которая была их виновницей. Я не верил истории Райнальди. Я
верил в правдивость двух писем, которые держал в правой руке. Последних, что
написал мне Эмброз.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
итальянец не лгал, когда говорил, что написал Нику Кендаллу. Мой крестный
сообщил ее слугам и арендаторам. В Бодмине меня встретил Веллингтон с
экипажем. На лошадях были траурные ленты. На Веллингтоне и груме - тоже, и
лица у обоих были вытянутые, серьезные.
ненадолго утихло, а может, долгий обратный путь через всю Европу притупил
мои чувства. Помню, как при виде Веллингтона и мальчика-грума мне захотелось
улыбнуться, погладить лошадей и спросить, все ли в порядке, словно я был
школьником, приехавшим на каникулы. Однако Веллингтон держался строго и даже
церемонно, чего прежде за ним не водилось, а молодой грум открыл мне дверцу
с подчеркнутой почтительностью.
спросил его о Сикоме и об остальных, он покачал головой и ответил, что слуги
и арендаторы в глубоком горе. - С тех пор как до нас дошла эта новость, -
сказал он, - соседи ни о чем другом не говорят. Все воскресенье и церковь,
и часовня в поместье были увешаны черным, но самым большим ударом стало, -
продолжал Веллингтон, - когда мистер Кендалл сообщил, что их господина
похоронили в Италии, что его не привезут домой и не положат в семейном
склепе. Неладно это, мистер Филипп. Все мы так считаем. Думаем, оно бы и
мистеру Эшли не понравилось.
последних недель сразу исчезли. Нервное напряжение прошло; несмотря на
долгую дорогу, я чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. Экипаж въехал
во вторые ворота и, поднявшись по склону, приближался к дому. Был полдень, и
солнце заливало окна и серые стены западного крыла здания. Собакам не
терпелось броситься мне навстречу. Старик Сиком, с траурной повязкой на
рукаве, как у всех слуг, не выдержал и, чуть не плача, заговорил, когда я
сжал его руку:
Почем знать, не заболели ли и вы лихорадкой, как мистер Эшли!
предупредить мои малейшие желания, и я был благодарен ему за то, что он не
пристает ко мне с расспросами о моем путешествии, о болезни и смерти
хозяина, а сам рассказывает, какое впечатление произвела смерть Эмброза на
него и на всех домашних: как весь день звонили колокола, что говорил в
церкви викарий, как в знак соболезнования приносили венки. Его рассказ
перемежался новым, почтительно-официальным обращением ко мне. сменил . Я успел заметить такую же перемену в
обращении ко мне кучера и грума. Она была неожиданной и тем не менее странно
согревала сердце. Пообедав, я поднялся к себе в комнату, окинул ее взглядом,
затем спустился в библиотеку и вышел из дома. Меня переполняло давно забытое
ощущение счастья, которого, как я думал, после смерти Эмброза мне уже не
испытать, - я уезжал из Флоренции ввергнутый в бездну одиночества и ни на
что не надеялся. На дорогах Италии и Франции меня преследовали видения и
образы, и я был не в силах отогнать их. Я видел, как Эмброз сидит в тенистом
дворике виллы Сангаллетти под ракитником и смотрит на плачущий фонтан. Я
видел его в голой монашеской келье второго этажа, задыхающегося, с двумя
подушками за спиной. И рядом, все слыша, все замечая, всегда как тень
присутствовала ненавистная, лишенная четких очертаний фигура женщины. У нее
было множество лиц, множество обличий; да и то, что слуга Джузеппе и
Райнальди предпочитали именовать ее графиней, а не миссис Эшли, окружало ее
некой аурой, которой не было, когда я представлял ее второй миссис Паско.
темные, как дикие сливы, глаза, орлиный профиль, как у Райнальди; по-
змеиному плавно и бесшумно двигалась она в затхлых комнатах виллы. Я видел,
как она, едва от Эмброза отлетело последнее дыхание жизни, складывает его
одежду в ящики, тянется к его книгам, последнему, что у него осталось, и
наконец, поджав губы, уползает в Рим, или в Неаполь, или, притаившись в доме
на берегу Арно, улыбается за глухими ставнями. Эти образы преследовали меня,
пока я не переплыл море и не высадился в Дувре. Но теперь, теперь, когда я
вернулся домой, они рассеялись, как рассеивается кошмарный сон с первыми
лучами дня. Острота горя прошла. Эмброз вновь был со мной, его мучения
кончились, он больше не страдал, словно он вовсе не уезжал во Флоренцию, не
уезжал в Италию, а умер здесь, в собственном доме, и похоронен рядом со
своими отцом и матерью, рядом с моими родителями. Мне казалось, что теперь я
сумею справиться с горем; со мною жила печаль, но не трагедия. Я тоже
вернулся на землю, взрастившую меня, и вновь дышал воздухом родных мест.
копны пшеницы. Увидев меня, они прервали работу, и я остановился поговорить
с ними. Старик Билли Роу, который, сколько я его знал, всегда был
арендатором Бартонских земель и никогда не называл меня иначе как , поднес руку ко лбу, а его жена и дочь, помогавшие мужчинам, присели
в реверансе.
без вас негоже свозить хлеб с полей. Мы рады, что вы снова дома.
но теперь что-то остановило меня - я понимал, что они сочтут такое
поведение неприличным.
огромное горе и для меня, и для вас, но надо держаться и работать, чтобы не
обмануть его ожиданий и веры в нас.
ждал, пока я не скрылся за живой изгородью, и лишь тогда велел работникам
снова взяться за дело. Дойдя да выгона на полпути между домом и нижними
полями, я остановился и оглянулся поверх покосившейся ограды. На вершине
холма четко вырисовывались силуэты телег, и на фоне неба темными точками
выделялись очертания застывших в ожидании лошадей. В последних лучах солнца
снопы пшеницы отпивали золотом. Темно-синее, а у скал почти фиолетовое море
казалось бездонным, как всегда в часы прилива. В восточной части бухты
стояла целая флотилия рыбачьих лодок, готовая выйти в море при первых
порывах берегового бриза.
шпилем часовой башни дрожала слабая полоска света. Я медленно шел через
лужайку к открытой двери. Сиком еще не посылал закрыть ставни, и окна дома
смотрели в сгущающийся мрак. Было что-то теплое и приветное в этих поднятых
оконных рамах, в слегка колышущихся занавесях и в мысли о комнатах за
окнами, таких знакомых и любимых. Из труб прямыми тонкими струйками
поднимался дым. Дон, старый ретривер, слишком древний и немощный, чтобы с
более молодыми собаками сопровождать меня, почесывался, лежа на песке под
окнами библиотеки, а когда я подошел ближе, повернул голову и завилял
хвостом.
остротой и силой осознал: все, что я сейчас вижу, все, на что смотрю,
принадлежит мне. Всецело, безраздельно. Эти окна и стены, эта крыша, этот
колокол, пробивший семь раз при моем приближении, все живое в доме - мое, и
только мое. Трава под моими ногами, деревья вокруг меня, холмы у меня за
спиной, луга, леса, даже мужчины и женщины, возделывающие землю, - часть
моего наследства; все это мое.
камину, держа руки в карманах. Собаки, по своему обыкновению, последовали за
мной и легли у моих ног. Вошел Сиком и спросил, не будет ли распоряжений для
Веллингтона на утро. Не желаю ли я, чтобы подали экипаж или оседлали
Цыганку?
распоряжений, а завтра утром сам увижусь с Веллингтоном.
перемена вызывала во мне смешанные чувства: с одной стороны - робость, с
другой - какую-то особую гордость. Я ощутил незнакомую прежде уверенность,
силу, душевный подъем. Мне казалось, будто я переживаю то же, что солдат,
которому поручили командовать батальоном; ко мне пришло то же чувство
собственности, та же гордость, наконец, то же ощущение свободы, какое
приходит к старшему офицеру, в течение многих лет занимавшему не
соответствующую его званию должность. Но, в отличие от солдата, я никогда не
сложу с себя командования. Оно мое пожизненно. Думаю, что тогда, стоя у
камина в библиотеке, я пережил мгновение счастья, какого у меня никогда не
было и больше не будет. Как все подобные мгновения, оно настало внезапно и
также внезапно пронеслось. Какой-то обыденный звук вернул меня к
действительности: то ли шевельнулась собака, то ли выпал из камина уголек,
или слуга закрыл наверху окна - не помню, что это было.
родственников у меня не было, поэтому за исключением того, что Эмброз
отказал Сикому и другим слугам, да обычных пожертвований беднякам прихода,
вдовам и сиротам, все движимое и недвижимое имущество было оставлено мне.





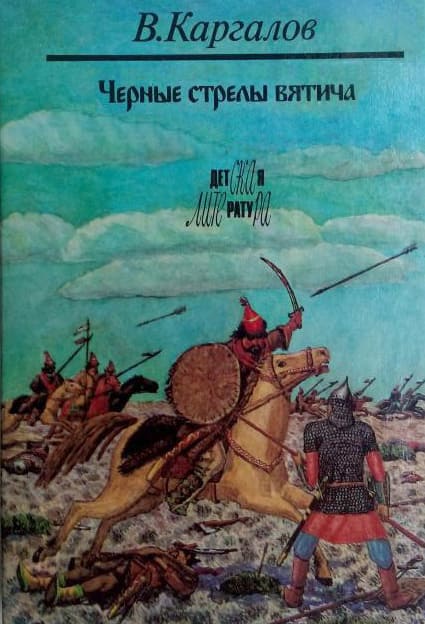
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Земляной Андрей
Земляной Андрей Свержин Владимир
Свержин Владимир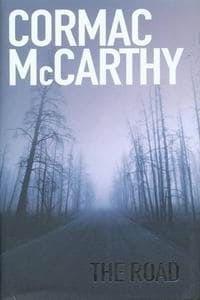 Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Пехов Алексей
Пехов Алексей