Жан Жене
Богоматерь цветов
монахиня или раненый летчик, упавший на поле ржи сентябрьским днем, похожим
на тот, когда возвещено было имя Нотр-Дам-де-Флер [1]. Изображение его
прекрасного лица, размноженное газетами, обрушилось на Париж и на всю
Францию, на самые отдаленные деревушки, на хижины и на замки; и буржуа с
тоской осознали, что в их повседневную жизнь проникли обольстительные
убийцы: тайком они прокрались в их сны и собираются их нарушить, прокрались
по черной лестнице; а она, их сообщница, даже не скрипнула. Под его
портретом сияли его преступления: убийство No 1, убийство No 2, убийство No
3, и так - до шести, они говорили о его тайном величии и предсказывали
будущую славу.
чтобы украсть у него всего-то тысячу франков; потом, в день двадцатилетия,
ему отрубили голову; помните, он тогда украдкой сделал нос разъяренному
палачу.
ради того, чтобы предать, и его расстреляли.
дано узнать не сразу: об одном я прочел на обрывке газеты, о другом
мимоходом обмолвился мой адвокат, третий был рассказан, почти пропет,
арестантами, - их пение, кажущееся фантастическим, заупокойным (словно De
Profundis), как жалобные песни, которые они поют по вечерам, пронизывая
камеры, доходит до меня прерывистым, искаженным, исполненным отчаяния. В
конце фраз голос срывается, и это придает ему такую сладость, что, кажется,
ему вторят сами ангелы, и оттого я испытываю ужас: ангелы внушают мне ужас,
когда я представляю их - ни духа, ни плоти, белые, невесомые и пугающие, как
полупрозрачные фигуры призраков.
раз, когда одна из этих скорбных звезд падает в моей камере, сердце мое
бьется, сердце колотится, его стук - точно барабанная дробь, возвещающая о
сдаче города. За этим следует возбуждение, подобное тому, которое скрутило
меня и оставило на несколько минут нелепо скрюченным, когда я услышал гул
пролетающего над тюрьмой немецкого самолета и разрыв брошенной поблизости
бомбы. На мгновение я увидел одинокого ребенка, несущегося в своей железной
птице, смеясь и сея смерть. Ради него одного все это неистовство сирен и
колоколов, 101 орудийный залп на площади Дофин, вопли ненависти и страха.
Все камеры задрожали, затрепетали, обезумев от ужаса, заключенные колотили в
двери, катались по полу, вопили, рыдали, проклинали и молили Бога. Повторяю,
я увидел, или думал, что вижу, восемнадцатилетнего ребенка в самолете, и со
дна своей 426-й камеры я улыбнулся ему с любовью.
собой, словно жемчужной грязью, стену моей камеры, но не случайно же я
вырезал из журналов именно эти прекрасные головы с пустыми глазами. Я
говорю: пустыми, потому что все они светлые и, должно быть, небесно-голубые,
похожие на стальную нить, к которой подвешена светящаяся прозрачная звезда,
голубые и пустые, как окна недостроенных домов, сквозь которые в окна
противоположной стены можно увидеть небо. Как солдатские казармы, открытые
по утрам всем ветрам, кажутся пустыми и чистыми, хотя на самом деле населены
опасными самцами, развалившимися как попало на своих койках. Я говорю:
пустыми, но если они закроют веки, то их вид будет тревожить меня еще
больше; как тревожат девушку зарешеченные окна огромной тюрьмы, мимо которой
она идет; за ними спит, грезит, бранится и брызжет слюной племя убийц,
превращающих каждую камеру в гнездо шипящих змей, но вместе с тем и во
что-то вроде исповедальни с пыльными саржевыми занавесками. В этих глазах,
на первый взгляд, нет ничего мистического, таинственного, как в некоторых
старинных крепостях - Лионе или Цюрихе, - но они гипнотизируют меня так же,
как пустые театры, заброшенные тюрьмы, выключенные механизмы и пустыни, ибо
пустыни сродни крепостям, они закрыты и не сообщаются с бесконечностью. Люди
с такими лицами вызывают у меня ужас, когда я на ощупь пробираюсь между ними
но зато - что за чудесная неожиданность, когда в их лабиринте, за поворотом,
к которому приближаюсь с замирающим сердцем, я не нахожу ничего, кроме
вздыбленной пустоты, осязаемой и надменной, как прикосновение монаршей руки.
Как я уже сказал, я не уверен, что именно эти головы принадлежат моим
гильотинированным друзьям, но, по явным признакам, я понял: они, висящие на
стене, гибкие как ремешки хлыста, и твердые как стеклянный нож, ученые, как
дети, играющие в доктора, и свежие, как незабудки, - избраны стать
вместилищем чудовищных душ. Газеты редко доходят до моей камеры, и с самых
красивых страниц, как в майских садах, обычно уже оборваны самые красивые
цветы - это парни-"коты". "Коты" [2] непреклонные, строгие, с расцветшими
членами, так что я уже перестаю понимать, лилии они или члены, или лилии и
члены - не совсем они, до такой степени, что вечером, стоя на коленях, я
мысленно обнимаю руками их ноги: их твердость поражает меня, и я начинаю
путать их, и воспоминание, которое я отдаю в жертву моим ночам, это
воспоминание о тебе, лежащем неподвижно, пока я ласкал тебя; и только твой
обнаженный и подрагивающий член врывался в мой рот с неожиданным
остервенением бродяги, пронзающего шляпной булавкой чернильную каплю у себя
на груди. Ты не шевелился, не спал, не грезил, ты был где-то далеко,
неподвижный и бледный, застывший, напряженно вытянувшийся на плоскости
кровати, как гроб на поверхности моря, и я не сомневался в нашей
целомудренности, когда чувствовал, как ты несколькими толчками изливаешься в
меня белой теплотой. Возможно, ты играл в наслаждение. В этот момент тихий
экстаз навещал тебя, и вокруг твоего блаженствующего тела возникало
невероятное сияние, подобное мантии, из которой высовывались твои голова и
ноги.
разжеванным хлебным мякишем к оборотной стороне картонного распорядка дня,
висящего на стене. А некоторые я приколол кусочками латунной проволоки,
которую приносит мастер, чтобы я нанизывал на разноцветные стеклянные
бусинки.
смастерил из них рамки в форме звезды для тех, кто наверняка были настоящими
преступниками. По вечерам, так же, как вы открываете окно на улицу, так я
переворачиваю распорядок дня оборотной стороной к себе. Улыбки и недовольные
гримасы неумолимо проникают в меня через все подставляемые мною отверстия,
их энергия наполняет и поднимает меня. Я живу в их водовороте. Они
определяют мои привычки, которые вместе с ними служат мне и семьей к
единственными друзьями.
заслужил тюрьмы: какой-нибудь спортсмен, чемпион. Но если уж я его
пригвоздил к моей стене, значит, все-таки я заметил у него где-нибудь в
уголке рта или в прищуре глаз дьявольский знак монстра. Какой-то изъян в их
лицо или в запечатленном жесте подсказывает мне, что для них не невозможно
меня полюбить, потому что они любят меня, только если они - монстры; можно
даже сказать, что этот случайно затерявшийся сам сделал выбор и оказался
здесь. В качестве свиты и придворных с обложек разных приключенческих
романов я подобрал им молодого метиса мексиканца, гаучо, кавказца, а со
страниц книжек, которые передаются из рук в руки на прогулках, - несколько
неумелых рисунков на полях: профили сутенеров и бандитов с дымящимися
сигаретами в зубах, или силуэт какого-нибудь типа с торчащим членом.
своими мелкими заботами. Я - словно хозяйка, которая следит, чтобы хлебная
крошка или перышко пепла не упали на паркет. Но уж ночью! Страх перед
надзирателем, который вдруг может включить свет и заглянуть в глазок,
вынуждает меня соблюдать гнусные предосторожности; я боюсь выдать себя даже
шуршанием простыни, но мои жесты, проигрывая по части благородства,
становясь тайными, лишь усиливают наслаждение. Я словно плыву. Под простыней
моя правая рука нежно скользит, по несуществующему лицу, а затем и по всему
телу преступника, которого я избрал, чтобы он разделил сегодня со мной мое
счастье. Кисть левой руки замыкает пальцы на несуществующем органе, который
сперва сопротивляется, а потом сдается, раскрывается, и сильное мощное тело
выдвигается из стены, приближается, падает и размазывает меня по тюфяку, на
котором остались пятна от более чем сотни заключенных; я же тем временем
грежу о счастье, в которое погружаюсь, и что мне до Господа Бога и его
ангелов!
мои герои, приколоты к стене, мы вместе здесь, за решеткой. По мере тог как
вы будете читать эту книгу, ее персонажи, сама Дивина [3], и Кюлафруа, будут



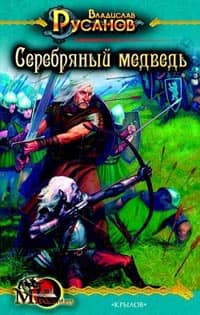


 Черепнин Владимир
Черепнин Владимир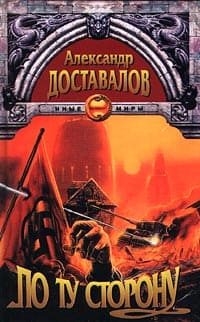 Доставалов Александр
Доставалов Александр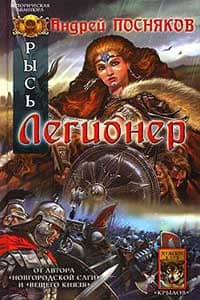 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс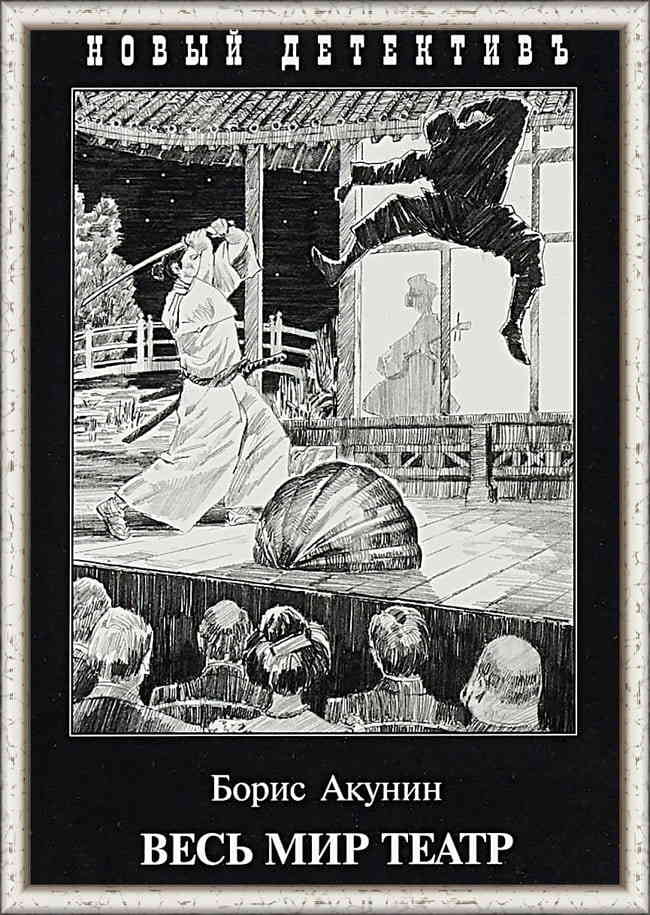 Акунин Борис
Акунин Борис