есть свои собственные безмолвные истории, и у тюремщиков, и даже у пустых
оловянных солдатиков. Пустых! У одного солдатика отломалась нога, и в культе
оказалась дыра. Это доказательство существования их внутренней жизни
одновременно обрадовало и расстроило меня. Дома у нас был гипсовый бюст
королевы Марии-Антуанетты. Пять или шесть лет я жил рядом, не обращая
внимания на него, пока однажды гипсовый шиньон бюста чудесным образом не
оказался разбитым, и я увидел, что бюст полый. Мне нужно было прыгнуть в
пустоту, чтобы ее увидеть. Зачем мне эти истории негров-убийц, когда такие
тайны - тайна "нет" и тайна "ничего," -посылают мне свои сигналы и
открываются, как в деревне они открылись Лу-Дивине. Церковь сыграла при этом
роль шкатулки с сюрпризом. Церковные службы приучили Лу к великолепию, а
каждый религиозный праздник волновал его, потому что он видел, как из
какого-то тайника появлялись позолоченные канделябры, лилии из белой эмали,
расшитые серебром скатерти, из ризницы -- зеленые, фиолетовые, белые, черные
муаровые и бархатные ризы, белые негнущиеся стихари, новые облатки. Звучали
невероятные, неслыханные гимны, и среди них самый волнующий: Veni Creator,
который поется во время свадебного богослужения. Прелесть Veni Creator была
прелестью дра [30] и восковых бутонов флердоранжа, прелестью белого тюля (к
этому добавляются и другие прелести, например та, которая особенно
сохранилась в мороженщиках, и мы об этом еще поговорим), украшенных бахромой
повязок для первых причастий, белых носков; я должен это назвать: свадебное
очарование. Важно сказать об этом, ведь именно оно уносило ребенка Кюлафруа
в заоблачные выси. А почему - не знаю.
лежащим на белой ткани на подносе, который он держит перед молодыми; на
кольце остаются четыре маленькие капельки.
Альберто, который только что помочился.
передник голубой, как воротнички у моряков.
сторона, обращенная к Богу -это беспорядок из пыльного дерева и паутины.
сестры Альберто. Но ко всему в этой церкви Кюлафруа уже привык; только
церковь соседнего селения еще могла бы предложить ему новый спектакль.
Постепенно и она была покинута богами, которые убегали при Приближении
ребенка. Последний вопрос, который он им задал, получил резкий, как шлепок,
ответ. Однажды, в полдень, каменщик ремонтировал паперть часовни. Стоявший
на верхней ступеньке стремянки, он не показался Кюлафруа архангелом, ведь
этот ребенок никогда не умел принимать всерьез изображений
сверхъестественных существ. Каменщик и был каменщик. Впрочем, красивый
парень. Вельветовые брюки четко обрисовывали его ягодицы и развевались
вокруг ног. В воротничке расстегнутой рубашки его шея била ключом из жестких
волос, точно ствол дерева из нежной травы подлеска. Дверь церкви была
открыта. Лу прошел под ногами стремянки, опустив голову и глаза под небом,
заполненным вельветовыми брюками, и проскользнул на хоры. Каменщик, заметив
его, ничего не сказал. Он подумал, что мальчик хочет подстроить какую-нибудь
шутку священнику. Сабо Кюлафруа простучали по плитам пола до того места, где
пол покрывал ковер. Он остановился под паникадилом и церемонно преклонил
колени на обшитой ковром скамеечке. Манера сгибать колени и жесты его были
точной копией того, что делала сестра Альберто каждое воскресенье. Он
упивался их красотой. Ведь эстетическое и моральное значение поступков
напрямую зависит от способностей того, кто их совершает. Я вот спрашиваю
себя, что означает чувство, которое какая-нибудь глупая песенка вызывает во
мне точно так же, как и признанный шедевр. Эту способность данную нам, мы
ощущаем внутри себя, и она становится вполне приемлемым движением, когда мы,
к примеру, наклоняемся, чтобы сесть в машину, потому что в тот момент, когда
мы наклоняемся, неуловимые воспоминания превращают нас в звезду или в короля
или в бродягу (а это еще один король), который наклонялся так же и которого
мы видели на улице или на экране. Когда я приподнимаюсь на носке правой ноги
или поднимаю правую руку, чтобы снять со стены зеркальце или взять с
этажерки миску, эти движения превращают меня в принцессу Т., потому что я
видел, как выполняла их она, ставя на место рисунок, который только что мне
показала. Священники, которые повторяют символические жесты, чувствуют, как
им передаются свойства, но не символа, а первого исполнителя; священник,
который, отпевая Дивину, незаметно повторял жесты, сопровождающие кражи или
взломы, хвастался этими жестами, как трофейными доспехами вознесшегося на
небо гильотинированного.
ягодицы и твердые груди Жермены привились к Кюлафруа, как позже привились
мускулы, и он должен был носить их по тогдашней моде. Затем, приняв
соответствующую позу, он шепотом помолился, делая акцент на поклонах головы
и благородной медлительности крестного знамения. Тьма звала его из всех
углов хоров, из всех кресел в алтаре. Маленькая лампа светилась; в полдень
она искала человека. Каменщик, который насвистывал под портиком входа,
принадлежал миру, Жизни, а Лу, один здесь, чувствовал себя властителем
несметных сокровищ. Ответить на призывы труб, уйти в кромешную плотную тьму.
Он молча поднялся, его сабо ступая перед ним, несли его с бесконечными
предосторожностями по пушистому ковру, и застарелый запах ладана, ядовитый,
как запах старого табака в обкуренной трубке, как дыхание любовника,
притуплял страхи, новые и мучительные, которые рождались при каждом его
жесте. Он медленно шевелил уставшими, вялыми, как у водолаза, мышцами,
онемевшими от запаха, который так отдалял мгновение, что Кюлафруа, казалось,
был и не там и не сегодня. Неожиданно перед ним на расстоянии протянутой
руки возник алтарь, словно Лу нечаянно сделал гигантский шаг; и он догадался
о святотатстве. Апостольские послания лежали на каменной плите. Эта тишина
была тишиной особенной, настоящей, которую не могли нарушить внешние шумы.
Они разбивались о толстые стены церкви подобно гнилым фруктам, брошенным
мальчишками; и если шумы извне и были слышны, то нисколько не мешали тишине.
котором орудуют грабители. Двойные занавески дарохранительницы были
задвинуты небрежно, оставляя щель, которая выглядела столь же непристойно,
как и расстегнутая ширинка, виден был торчащий маленький ключ, на который
закрывалась дверца. Рука Кюлафруа была уже на ключе, когда он пришел в
чувство, чтобы тут же его вновь лишиться. Чудо! Кровь должна потечь из
облаток, если я возьму одну из них! Опрометчиво рассказанные истории о
кощунственных иудеях, кусающих тело и кровь Господня, истории о чудесах,
когда облатки, падающие с языка ребенка, оставляют следы крови на плитах и
скатертях, истории о церковных грабителях подготовили этот ужасный момент.
Нельзя сказать, чтобы сердце Лу забилось сильнее, напротив - что-то вроде
прикосновения пальцев, которые в тех местах называют пальцами Святой Девы,
уменьшило силу и размах ударов сердца, - или чтобы в ушах у него шумело:
сама тишина выходила из них. Приподнявшись на цыпочках, он нашел ключ. Он не
дышал. Чудо. Он приготовился увидеть, как гипсовые статуи вываливаются из
своих ниш и падают на него; он не сомневался, что они так и сделают; для
него самого это было уже свершившимся фактом. Он ждал проклятия с
безропотностью приговоренного к смерти: уверенный в его неотвратимости, он
ждал его совершенно спокойно. А значит, он действовал уже после тайно
состоявшегося акта. Тишина (утраиваясь, учетверяясь) готова была разорвать
церковь, сотворить ослепительный, божественный фейерверк. Дароносица была
там, он открыл ее. Поступок показался настолько необычным, что ему
захотелось взглянуть на себя со стороны. Видение чуть было не обрушилось.
Лу-Кюлафруа схватил три облатки и швырнул их на ковер. Они опустились
неуверенно, планируя как листья, падающие в безветренную погоду. Тишина
бросалась на ребенка, опрокидывала его, как толпа боксеров, прижимала
плечами к земле. Он выпустил из рук дароносицу, с пустым звуком та упала на
ковер.
вокруг неважно что. Красивая форма, как гипсовая голова Марии-Антуанетты,
как солдатики, которые были дыркой с тонким слоем олова вокруг.
матрасе, на полу, потому что на единственной кровати спал Клемент, и снизу я
смотрел на него, вытянувшегося, как на скамье, как на камне алтаря. За всю
ночь он пошевелился только один раз: чтобы сходить в отхожее место, он
совершил эту церемонию с величайшей таинственностью. Тайно, тихо. Вот его
история, как он мне ее рассказал. Он был из Гваделупы и танцевал обнаженным
в Caprice Viennoise [31]. Он жил со своей любовницей-голландкой по имени
Соня в маленькой квартирке на Монмартре. Они жили так, как, мы уже видели,
жили Дивина и Миньон, то есть той чудесной, легкой жизнью, которая может
лопнуть от малейшего дуновения, - так думают буржуа, они-то хорошо чувствуют
поэзию жизни создателей поэзии: негров-танцоров, боксеров, проституток,
солдат, но они не видят, что эти жизни крепко привязаны к земле, потому что
полны ужаса. Майским утром 1939 года между ними произошла одна из сцен,
обычная для отношений между сутенером и проституткой, из-за денег. Соня
заявила, что уходит. Он дал ей пощечину. Она завопила. Она обругала его
по-немецки, но дом был населен людьми воспитанными и тактичными, и никто не
услышал. Тогда она решила достать свой чемодан, спрятанный под кроватью, и
стала молча наспех засовывать туда свое белье. Большой негр подошел к ней.





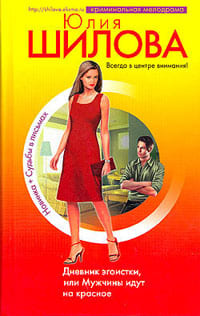
 Никитин Юрий
Никитин Юрий Акунин Борис
Акунин Борис Мороз Александра
Мороз Александра Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия