дверью, он усадил Карналя в темной передней, дал лист чистой бумаги и
сказал: "Пиши автобиографию". Карналь написал, отдал, тот отпустил его, а
через два дня позвал снова, дал лист бумаги, снова велел: "Пиши
автобиографию". Карналь написал снова, молча ушел, когда же это повторилось
в третий раз и он в третий раз изложил свое недолгое, но тяжелое
жизнеописание, то на прощанье спросил: "Еще буду писать?" - "Понадобится,
так и будешь", - спокойно ответил Попов.
- в комнатке стоял лютый холод. Чтобы согреться, Попов ходил по комнате,
поскрипывал протезом. Не хотелось быть слишком резким с таким человеком, но
Карналь не мог удержаться от насмешки: "Даже последний идиот уже запомнил бы
эту страницу и писал бы вам ее целых сто лет, не отходя от первой версии". -
"А ты думаешь, что мне отбили не только ногу, но и голову? - в том же тоне
ответил ему Попов. - Твое прошлое никого не интересует. Ты уже описал его
всюду". - "Тогда зачем же это творчество?" - удивился Карналь. - "Для
напоминания". - "Напоминания о чем?" - "Чтобы не болтал языком слишком. Ты
студент, хочешь стать ученым, у тебя своя работа, у меня своя. Меньше
распускай язык". - "Кучмиенко? - сразу догадался Карналь. - Капнул о наших
спорах... Он?" Попов вытолкал его из комнаты. Ничего не сказал, но и не
вызывал больше писать автобиографию, и Карналь убедился: Кучмиенко его
продал.
обстоятельства, так складывается жизнь, к этому добавляется либо собственная
нерешительность, либо чрезмерная доброта твоя, либо неоправданное
восхищение. Но в начале почти всегда стоит его величество случай, и это
хорошо, если найдешь в себе мужество перебороть его всесильность и не
позволишь отравить остаток твоих дней.
занятий в университет, пришли на физмат, когда первокурсники уже чуть ли не
два месяца карабкались по крутым каменистым тропам науки (каждый с первого
дня прочитал и запомнил навсегда Марксовы слова об этих тропах и о том, что
лишь тот достигнет сияющих вершин науки, кто...). Правда, у каждого были
свои причины опоздания, но это уже не имело значения.
столько наслушался от покойного Профессора в концлагере, и именно на тот
факультет, где до войны преподавал Профессор Георгий Игнатьевич. Проблема
выбора перед ним не стояла, линия жизни определена была еще тогда, когда он
впервые услышал Профессора и лишь краешком своего юношеского ума прикоснулся
к таинственному миру высоких чисел.
наездился перед этим предостаточно, к тому же снова открылись рапы в легких,
и он залег в отцовской хате, дышал медом и мечтал о математике, может, и
преждевременно, во всяком случае пока что без достаточных оснований. Но вот
во второй половине августа пришло ему письмо из Одессы, маленький, величиной
с ладонь листочек бумаги. Отпечатанный на стеклографе текст сообщал Карналю
о том, что он зачислен студентом физмата Одесского университета, а поэтому
его просят первого сентября на занятия, имея при себе, кроме всего
необходимого, еще миску, ложку и кружку. Для будущего студента это могло
показаться странным, но солдата кружкой и ложкой в тот год окончания войны
никто не мог удивить, это воспринималось как вещь совершенно естественная и
нормальная.
врача о состоянии здоровья. Когда приехал, никто не упрекал его,
формальности были самые простые. Единственно, что он потерял, - это место в
общежитии. Все места были заняты. Но общежитие еще и не самая большая беда.
Хуже, когда все места заняты в жизни.
два института, пока добрался наконец до университета. Фронтовик,
орденоносец, имел большие амбиции, сдал экзамены еще перед войной в
ветеринарный институт, так что считался старым студентом, горел жаждой
науки, истинной, высокой, чистой, говорил всем про свою жажду почти
вдохновенно, ему шли навстречу, ему советовали и помогали. Что может быть
выше точных наук? Как сказал Чехов: в паре и электричестве больше
человеколюбия, чем в добродетели и сдержанности. Кучмиенко был высокий,
бледный, умел картинно встряхивать длинным черным чубом, грудь его поражала
симметрией наград - с одной стороны сияли два ордена Красной Звезды, с
другой круглились серебряно-золотые медали. Он всюду ходил с книжкой в руках
- загадочный томик, не имевший ни малейшего отношения ни к математике, ни к
точным наукам вообще.
Нужно сказать решительно и недвусмысленно: не Карналь. Потому что прибыл
позже. Кучмиенко считал себя уже старожилом, кроме того, имел еще и другие
основания оказать покровительство этому худому, бледному, измученному парню,
одетому в несуразную американскую шинель с большими бронзовыми пуговицами, в
какой-то самодельный мундир, без наград и званий, без общежития и
родственников в этом героическом, прекрасном, но конечно же чужом для всех
приезжих городе. Кучмиенко хотел и умел быть великодушным. Он первый
протянул руку Карналю и назвал себя, тот назвал себя, так произошло
знакомство, а потом Кучмиенко предложил угол.
мой самый большой недостаток. Поэтому я отаборился в одной хате. Пятый этаж,
возле самой оперы, центральнейший центр, три метра до Дерибасовской,
пятнадцать метров до дюка Ришелье, до Стамбула рукой подать, Париж видно из
окна кухни. Все остальное, как ныне во всей Одессе и в европейской части
Союза. Воды нет, электричества нет, подбелить стены нечем. Клопов морить
тоже нечем. Но есть место в комнате и запасная раскладушка.
ободранную комнату на пятом этаже старого дома, обшарпанность и запущенность
комнаты не поддавались описанию. Когда-то стены были оклеены темно-красными
обоями с золотыми бурбонскими лилиями на них, теперь от тех лилий осталось
то же самое, что и от всех королевских династий Франции; с украшенного
художественной лепкой потолка свисала на буро-ржавом шпуре заляпанная чем-то
одинокая лампочка, которая пока не светилась, посреди комнаты стояла
огромная никелированная кровать, но стояла не на полу, а в четырех жестянках
из-под свиной тушенки, полных воды; над кроватью был сооружен балдахин из
порыжевших газет - вот и все, что имел Кучмиенко в своих палатах, зато было
там достаточно свободного места, чтобы поставить низенькую парусиновую
раскладушку, на которую Карналь сразу и пригласил Кучмиенко садиться. Но тот
не воспользовался приглашением, мгновенно упал на свое царское ложе, задрал
ноги на спинку, украшенную с двух сторон гигантскими шарами, спросил с
высоты своего положения:
боев с представителями семейства джутиковых.
внимали, зато мы... Собственно, мы и без серы все равно гибли... А тебе
помогает все это?
пикируют. Но собираются по краям газет и пробуют добраться до меня по
параболе.
десятого класса, парни-фронтовики, несколько вундеркиндов с прирожденными
математическими способностями, несколько гениев абстрактного мышления, дети
ученых и сами уже будущие ученые, интеллектуалы с пеленок, верхогляды и
безнадежные зубрилы, непревзойденные мастера грызения науки - все пожимали
плечами, когда речь заходила о Кучмиенко и Карнале. Ну, Кучмиенко хоть имел
ордена, умел красиво встряхивать чубом, носил всегда загадочный томик, умел
что-то там процитировать такое, от чего у математиков сосало под ложечкой от
осознания собственной неполноценности. А Карналь? Хилое, почти никчемное
создание с запутанной биографией, которую умудрилось сотворить себе до
двадцати лет, да еще и безнадежно отстал по всем предметам. Держат на курсе
только из уважения к его фронтовому прошлому, которое он, кстати, безнадежно
испортил перед самым концом войны, будто уже не смог достойно завершить то,
что так почетно и прямо-таки героически начал, добровольно отправившись в
сорок первом на фронт, написав предварительно письмо наркому с просьбой
сделать для него исключение и дать возможность защищать Родину.
что иное, как солидарность неудачников, и незлобиво смеялись, поощряя друг
друга к героическим усилиям, чтобы догнать и перегнать, может, в
каком-нибудь там будущем - близком или далеком - всех тех гениев,
недосягаемых и неприступных пока для безнадежно отсталых. Незаметно каждый
из них выбрал свой метод преодоления отставания, "догоняния" и
"перегоняния". Карналь засел в читалках, сидел до тумана в глазах, спал по
нескольку часов, часто просыпался, ночи для него превращались в
кроваво-адовые кошмары благодаря крестовым походам войск джутиковых, убегал
на кухню, из окна которой, как утверждал Кучмиенко, можно видеть Париж,
садился возле того окна, читал при свече, а то и при луне, которая в Одессе
светит довольно ярко. В науке нет широкой столбовой дороги...
Действовал стихийно, еще не умел точно определить характер своих поступков,
не знал, наверное, что в науке организаторы нужны, может, еще больше, чел в
других отраслях жизни, где-то бегал, суетился, встряхивал чубом, носил с
собой загадочный томик, не боялся пропускать лекции, мог позволить себе
роскошь поспать до обеда, сбегать с девушкой на кинофильм с Марикой Рокк
(голую кинозвезду купают в деревянной бочке какие-то шикарные франты),
иногда забегал и в читалку, набирал целые кипы книг, просматривал их бегло,
углубляться не имел времени, все схватывал вполглаза; Кучмиенко уже везде
знали, приглашали на вечеринки, танцы, туда, сюда, Карналь рядом с ним


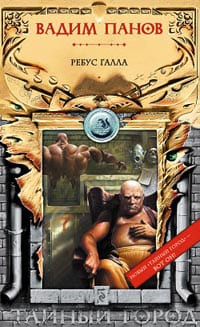

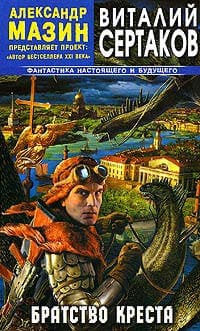

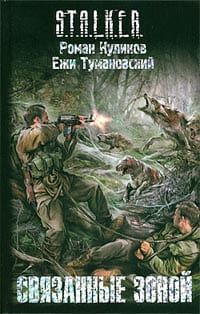 Куликов Роман
Куликов Роман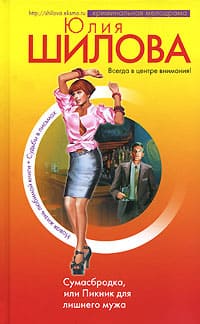 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Флинт Эрик
Флинт Эрик