который прокладывает себе путь в историческом развитии!" Вся история, по
сути, была насмешкой над разумом, усилия отдельных людей, даже гениальных,
если и не пропадали бесследно, все равно не приносили должных результатов,
только социалистическая революция дала возможность общественному человеку
утверждаться активным, творческим субъектом, не ощущающим больше в своих
решениях и в своем развитии гнета отчужденных общественных отношений.
Объективные враждебные силы, господствовавшие до сих пор над историей,
подпали под контроль людей. Почему же кое-кто считает, будто наука не
подлежит никаким влияниям и контролю, будто не зависит она ни от времени, ни
от места, ни от отдельных личностей, а существует, как та всеобщая аллегория
поэзии в г"тевском "Фаусте"? Говорить надо не о холодности науки,
бесчувственности, рационализме техники, а прежде всего о безличности,
иррационализме того общества, в котором порвались все связи между самим
обществом и человеческой личностью. Наука отражает жизнь общества. Нет науки
всемирной, науки вообще. Она несет в себе все черты, противоречия,
достоинства того общества, в котором развивается, и тех людей, которые в ней
работают. И когда раздаются голоса о кризисе науки, следует прежде всего
говорить о кризисе общества, которое не умеет пользоваться достижениями
науки и техники.
промышленного развития. Производить только то, что потребляется, ни больше
ни меньше. Экономить усилия и средства, оберегать среду от дальнейшего
загрязнения, спасаться от угрозы энтропии, какою пугают мрачные бухгалтеры
от футурологии. Но еще никому не удалось спастись от смерти, умирая. А
нулевой уровень - это и есть смерть. Ибо когда нет развития, движения,
надежд, тогда неминуемо наступает умирание. Можно оправдать даже того, кто
теряет больше, чем добывает сегодня, потому что у него есть стимулы добывать
завтра больше. Но нет оправданий тому, кто останавливается или - еще хуже! -
тянет человечество назад. Жить для себя, не заботясь о последующих
поколениях, пугаться роста народонаселения, поскольку, мол, революции всегда
возникают, как следствие слишком большого количества людей, в
самовлюбленности и самоослеплении считать себя последним звеном великого
эксперимента природы, называемого жизнью, - разве это достойно высокого
звания человека? Человечество не может остановиться. Оно взяло слишком
высокий разгон, движение для него - это наивысший закон жизни. Не пугаться
лавинных процессов научно-технической революции, а, напротив, радоваться и
гордиться невиданными достижениями человеческого гения - с этим чувством
должен жить человек конца двадцатого века. В высокоразвитых буржуазных
странах человек-производитель, homo faber, получает возможность жить в мире
все более изысканных, но исключительно биологических успокоений. Техника не
освободила этих людей, они почувствовали себя узниками собственных изделий,
рабами вещей, над ними тяготеют не только условия биологические, но и, так
сказать, условия цивилизованные. Человеческая деятельность при таких
обстоятельствах теряет величие, достоинство и смысл. Поэтому так много
раздается тут сегодня отчаявшихся голосов, хотя отчаяние это направлено на
объекты малозначительные, пустяковые, второстепенные. В моей стране человек,
пользуясь всеми достижениями научно-технической революции, не становится
автоматически ее жертвой, придатком, объектом новейшей эксплуатации и
потребительской затурканности. И это прежде всего потому, что гражданин
моего государства принимает непосредственное участие не только в
элементарных трудовых процессах, но и в социальном планировании жизни.
Политический лидер моей страны сказал: "Мы строим самое организованное,
самое трудолюбивое общество. И жить будут в этом обществе самые трудолюбивые
и добросовестные, организованные и высокосознательные люди". Изменение,
повышение качества жизни, которые несет нам научно-техническая революция,
непременно сделают мир советского человека намного лучше, богаче,
утонченнее. Ибо всегда и во всем присущи нам и высоко почитаются чаяния
каждого члена общества на социальное продвижение, на осуществление его
личных целей, делается все, чтобы своевременно предотвратить возникновение в
сознании рядового труженика представления о непрестижности его положения,
которое может появиться при оценке им его профессии, заработка, жилья.
Создается чувство социальной ответственности и самодисциплины, человек
включается в орбиту основных забот общества не только с точки зрения его
отдачи на производстве, но и исходя из роли гражданина и достоинства
человека. Это дает нам право воспринимать все новое, что приносят каждый
день наука и техника, не пугаясь тех перемен в экзистенции, за которыми
кое-кто готов видеть угрозу существованию человеческого рода вплоть до
истребления его биологических основ. Нет науки вообще, ученых вообще. Ученые
- это тоже люди. А люди только тогда воистину люди, когда занимают точно
очерченную позицию. Я лично стою на позиции социалистического ученого.
Сегодня это многими еще воспринимается как пропаганда, как потоки слов. Но
будущее за нами. Этим я, собственно, начинал свою речь, этим позволю себе и
закончить".
сама его кровь отчаянно вскрикнула: "Петрику!"; вспомнит ренессансное диво
окон, ступенек, каминов, башен и террас Шамбора; и ужин в бело-золотом зале
советского посольства в Париже, когда он рассказал послу, как был там
впервые, в сорок пятом, тяжело раненный, лежал внизу во дворе посольства в
американском "додже" и ни о каких бело-золотых залах не помышлял; почему-то
припомнится и одна-единственная фраза из принятой учеными после многодневной
дискуссии декларации: "Выражают уверенность в неистребимости сугубо
человеческих ценностей..."
произошло еще тогда, когда он под резным потолком замка Шамбор голосовал за
принятие декларации? Неистребимость сугубо человеческих... Айгюль была
наделена тонким даром предчувствия, непостижимость Востока, таинственные
тысячелетия, что-то почти мистическое... Но и она не угадала, где настигнет
ее смерть, не знала, садясь в машину, что мчится навстречу собственной
гибели... А если предчувствовала? Карналь так никогда этого и не узнает, и
никто не узнает...
домой, ко всему родному, единственному, к боли тоже. Наверное, человеку
нельзя без страданий, ибо кто же еще на этом свете, кроме человека, способен
на это чувство? По крайней мере, не машины, даже если взять всю огромную
семью тех умных созданий, над которыми Карналь работал уже половину своей
жизни.
его имя. Улыбнувшись молоденькому пограничнику, поставившему штамп в его
дипломатическом паспорте, Карналь пошел к дежурной по аэропорту и спросил,
действительно ли кто-то называл его фамилию. Дежурная заглянула в свои
записи.
которую движущаяся лента транспортера уже подавала вещи, подхватил свой
нетяжелый чемодан, являя собой образец спокойствия и неторопливости среди
гама и суеты, вышел за условную границу таможни, в общем зале не стал
задерживаться, хотя можно было бы что-нибудь выпить возле буфетов,
соблазнительно сверкавших нержавеющей сталью, направился сразу к высокой
стеклянной двери и очутился на улице. Спокойной вольготностью лесов и темным
духом далеких болот повеяло на него с тихих просторов, начинавшихся сразу за
широкой асфальтовой площадью; за зеленоватым сиянием ртутных ламп, как бы
подвешенных в воздухе на невидимых нитях к небесному своду; за рядами
неподвижных автомобилей и автобусов, ждавших пассажиров. Карналю уже было
знакомо первое чувство по возвращении из-за границы: простор, ширь,
безграничье, ощущение воли, беспредельность полей, лесов, какие-то
удивительно просторные города, никакой тесноты... Была когда-то смешная
песенка: "Я смiюсь на повнi груди, радiю, як дитя..." Смешная, а
правдивая...
молодеет, становится каким-то почти невесомым, точно космонавт в полете. Не
заметил, что на дворе моросит дождичек, еще не холодный, но уже осенний,
занудливый, надоедливый. Академик радовался и дождику, и коротеньким
радугам, которые он образовывал вокруг неоновых ртутных светильников, и
влажному дыханию родного воздуха. Что тебе Париж, и все замки Луары, и все
чудеса мира, когда ты дома!
поблескивал черным лаком, светился хромированными деталями, номер был тот,
что назвала дежурная. Шофер ходил возле машины, увидев Карналя, подошел к
нему:
положил чемодан в багажник, сел на свое место, сразу тронулись.
девятичасовой экспресс, но пришлось обменять на двенадцатичасовой, поскольку
ваш самолет с запозданием вылетел из Парижа. Двенадцатичасовой тоже скорый.
Через полчаса будем в Москве, а еще через полчаса - ваш поезд.
газеты, которых в Париже еще не видел, в поезде был один в купе, спал
крепко, был спокоен, встревожился впервые только тогда, когда на перроне в
Киеве его никто не встретил. Не встретили в Москве - это можно понять, но в
Киеве?




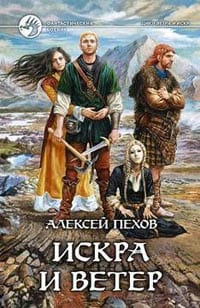

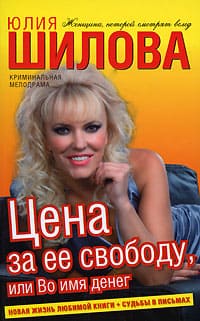 Шилова Юлия
Шилова Юлия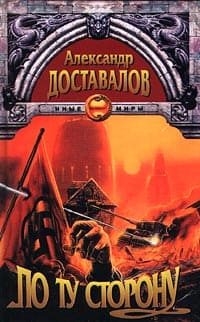 Доставалов Александр
Доставалов Александр Круз Андрей
Круз Андрей Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк