прибытии, в Москве, вишь, знали, следовательно, знали и здесь. И - никого.
Нет вечного Кучмиенко, который ни за что не упустил бы такого случая. Нет
помощника Алексея Кирилловича, человека внимательного и заботливого, да,
откровенно говоря, и симпатичного ему. Нет дочки. Пусть бы не приехал его
неуправляемый зять Юрий, но Людмила!
обнимали, целовали, звучали радостные возгласы, царила растроганность, весь
перрон был в теплых течениях человеческих восторгов, радостей, слез
приветствий, а Карналь неуклюже пробирался со своим чемоданом, угловато
разрезал эти течения, ощущая себя попеременно то твердым обломком из
какой-то невыясненной катастрофы, то несуразным осколком холодного айсберга,
а то просто одиноким человеком, лишенным возраста, положения, даже имени.
привлекал взгляды пассажиров, возможно, его кто-то узнал, может, удивлялись:
академик, известный человек, толкается с чемоданом на эскалаторах, забитых
утренними толпами.
но сегодня путь казался бесконечным, тяжелым, даже изнурительным. Карналь с
немалым удивлением выяснил, что он забыл уже, как носят чемоданы, особенно
же на такие довольно значительные расстояния, но не это его угнетало. Был
разозленно-напряженный, удивлялся и гневался, что никто не встретил на
вокзале, билась в голове мысль: наверное, что-то случилось. Он отгонял эту
мысль, а она снова появлялась, надоедливая, настырная, бессильно-нахальная,
как осенняя муха.
села после смерти Айгюль, чтобы хозяйничала в его одиноком жилище, услышал,
как кто-то бежит к двери, уже не сомневался: что-то случилось страшное.
приездом вас...
когда-либо увидеть.
ними не могло быть, в чем оба давно уже убедились. - Что тут у вас? Неужели
никто не мог встретить? В моем возрасте таскать чемодан через весь город!
тогда бы не ставил себя в смешное положение перед всем Киевом. Сообразив,
еще больше рассердился - неведомо на кого, хотел сказать Юрию что-то обидное
и несправедливое, потому что в таком состоянии говорятся обычно только вещи
несправедливые, но взглянул на зятя и не мог поверить глазам. Тот стоял
бледный, испуганный, прятал глаза, чемодан, который он взял из рук Карналя,
держал точнехонько так, как перед этим держал его на эскалаторе в метро сам
академик.
Поставь его вон туда. Где тетя Галя? Где Людмила? Где мой Алексей
Кириллович, наконец?
чемодана, тихо произнес Юрий.
переехали сюда, а меня вытолкали на Русановку?
виновато прервал его:
разминуться. Сидел дома, ждал звонка. Машина во дворе. Заправленная. Мы
можем ехать.
разговор, предчувствие зашевелилось в сердце Карналя, но его оттесняло
раздражение.
его единственная дочка могла бы пополнить те печальные статистические ряды
неудачных супружеских пар, что стали словно бы одной из примет двадцатого
века. Кто угодно, но только не его ребенок!
Карналь мог бы поклясться, что на лице у зятя отражалось даже страдание,
если бы к Юрию шло это слово. - Петр Андреевич, я прошу вас... Вы можете
сесть? Я прошу вас.
себя спасение лишь в том, чтобы усадить тестя, а может, это его кто-то так
научил и он теперь ни за что не хотел отступиться от принятого намерения и
без конца повторял: "Сядьте, я вас прошу, сядьте, Петр Андреевич".
своего всегда веселого зятя. - Сел на так называемый стул, выражаясь твоим
стилем, что дальше?
обратил внимание, что тот в черном костюме, в белой сорочке с темным
галстуком. Кольнуло сердце при виде этого костюма и галстука, но снова
отогнал дурное предчувствие, спросил устало:
запинался, как будто кто-то за несколько дней подменил тебе зятя. Наконец
взял со стола листочек сероватой бумаги, неприятно коробившийся от
наклеенных на него строчек телеграфной ленты, протянул Карналю.
всю жизнь суждено было получать только чрезмерно лаконичные телеграммы?
Самые радостные и самые трагичные. Он не мог прочитать. Скользнул взглядом,
глаза подернулись черным туманом, рука задрожала, все в нем содрогнулось, он
вдруг стал хаотичным клубком боли, горя, отчаянья. Три слова с телеграфного
бланка били ему в сердце таранами беспощадности, рвали мозг, превращали душу
в сплошной стон. Батьку мой... Разве ж я хотел тебе беды? Батьку!..
Карналь не отдавал. Не приближая к глазам, почти не глядя на бланк, читал те
три слова, как будто знал их спокон веку, как будто написаны они были не на
казенной бумаге мертвым аппаратом Морзе, а выжжены черным огнем в воздухе:
"Приезжай. Умираю. Батько".
бесконечен, и все, что угрожает его бесконечности, неминуемо должно быть
враждебно тебе, чужое и отвратительное. Человек бесконечен. Но что он значит
в своей бесконечности?
тетя Галя с ними. До Днепропетровска самолетом, а там обком дал машину. Уже
звонили оттуда. В тот же день и звонили. А я тут вас... Хотели дать
телеграмму в Париж, но Пронченко отсоветовал... Чтобы вас не волновать... Он
знал, когда вы вернетесь... Там, в селе, тоже знают...
торопливо, как-то словно бы виновато, в предупредительности своей становился
похожим на Кучмиенко. Он, пожалуй, знал, что бывает похожим на отца, и
поэтому старался бороться с семейным комплексом пустопорожней болтовни.
Карналь поймал себя на таких неуместных рассуждениях и сам ужаснулся холоду
человеческого ума... Но холод души твоей будет так велик, что не согреешься
ни на каких кострах вдохновения, надежды и отчаянья. Он ухватился за
последние слова Юрия о том, что в селе знают. Что знают?
заметался. Карналю было неприятно наблюдать эту не присущую зятю беготню,
скривился, сказал: - Сядь. Не мельтеши перед глазами. Сядь и спокойно...
Надо ехать... Я забыл, Людмила звонила час назад. Оттуда очень трудно
дозвониться. Через три коммутатора на сельсовет. Они ждут... А уже
двенадцать часов. Они сказали: до вечера...
что телеграмма написана в форме неопределенной, уже не отцовской рукой, там
было только угадано безошибочно отцово желание, последнее и единственное в
то последнее мгновение, когда он почувствовал... Да и почувствовал ли?
Сломал три ребра. Написал: "Может, умру, так приезжай". Я гнал машину
четыреста километров, перевернул всю районную больницу, а там говорят: был
дед Карналь, перевязали ему грудь, дали таблетку, он и сбежал пешком домой.
За двенадцать километров. Я в село, подъезжаю ко двору, а батько сидит на
крыльце, выглядывает, когда сын приедет..."
множество примеров бессмертия своего рода, поминая даже собственную судьбу,
которая была жестокой, но и милосердной в то же время к нему. В глубинах
сознания уже лежала недвижным грузом мысль о смерти отца, но он еще не
сдавался, не хотел соглашаться с неизбежностью, пытался утешить, казалось,
не так самого себя, как этого растерянного юношу.
вставая со стула.
понадобится...




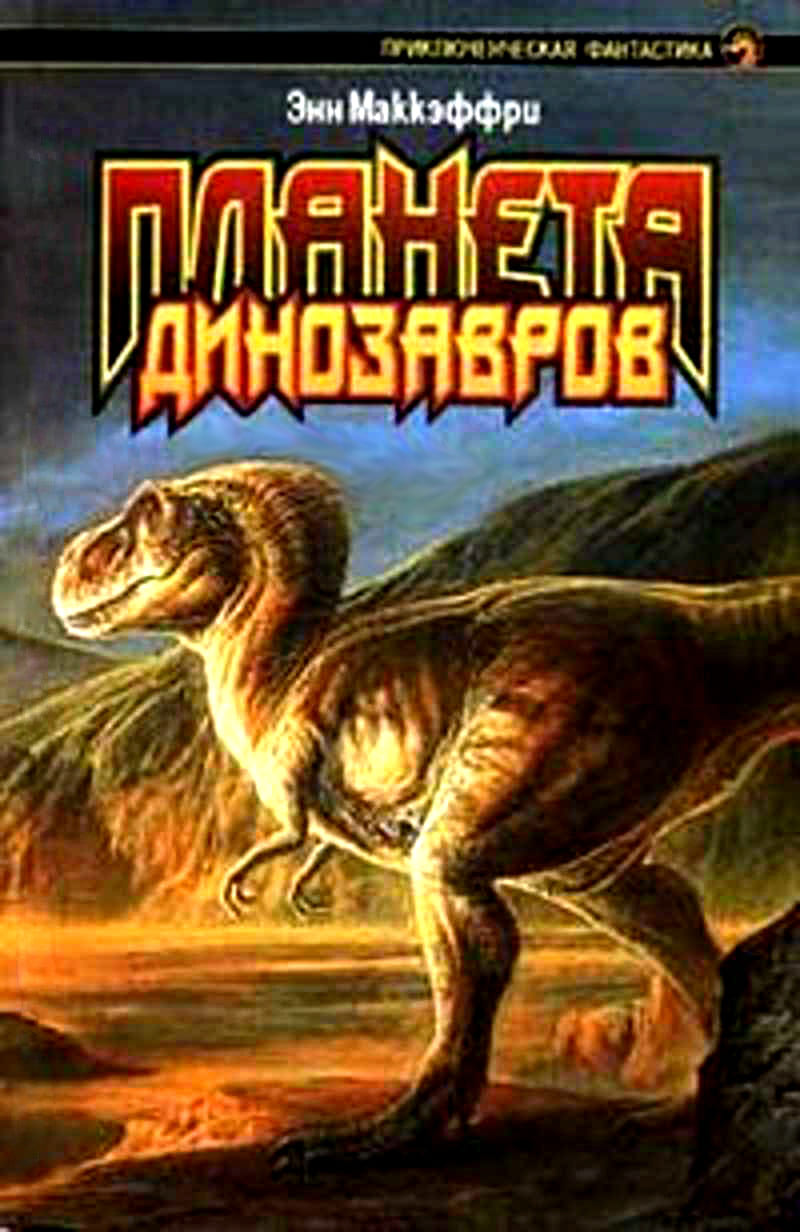

 Каменистый Артем
Каменистый Артем Адамов Григорий
Адамов Григорий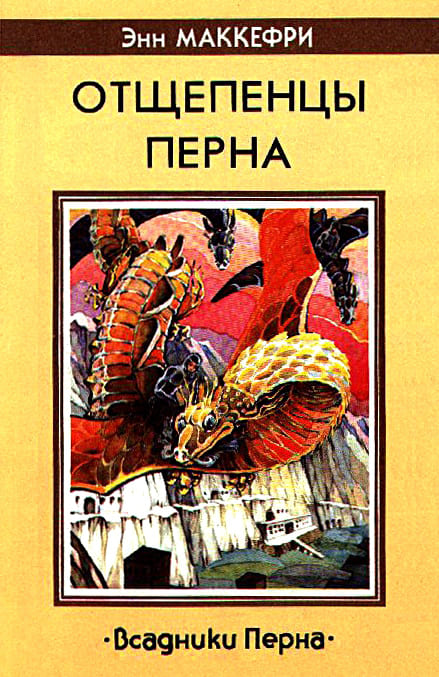 Маккефри Энн
Маккефри Энн Свержин Владимир
Свержин Владимир Флинт Эрик
Флинт Эрик Афанасьев Роман
Афанасьев Роман