казался затурканной деревенщиной, в сущности, он и был таким, тут уж ничего
не поделаешь.
"хвостов" не было - вот так надо жить на свете и в науке. А Карналь? Этот
сдуру получил по всем предметам пятерки, единственный на их курсе, в это
никто и не поверил. На Карналя смотрели с еще большим сочувствием, мужская
часть курса теперь уже окончательно махнула на него рукой, а если говорить о
девушках, то эта лучшая часть, обладающая сверхчуткостью, проявила к Карналю
внимание преступно-чрезмерное, проще говоря: все девушки их курса намертво в
него влюбились. И что же Карналь? В своих увлечениях математикой он даже не
заметил этого массового явления, чем воспользовались парни позорчее и
попрактичнее, то есть стоявшие ближе к жизни. Кучмиенко был среди них.
Успевал всюду. Наконец он определил основной недостаток Карналя:
неповоротливость. Из-за этого так неудачно закончил войну. Вернулся без
орденов, в чужой шинели. Раны? Они украшают лишь героев. Если же тебя
причислили к жертвам, то уже не спасут никакие боевые раны.
когда попал к фашистам. После возвращения попытался было напомнить о своих
наградах. Мог бы раздобыть необходимые подтверждения. Ладно, а сами ордена?
Не станет же Монетный двор изготовлять их для него специально еще раз! Он
неповоротлив? Может, такова жизнь? Да и не могут все одинаково себя вести.
Один такой, другой еще какой-то.
неприступно запрещенные. Молодость охотно судит обо всем на свете и щедро
раздает оценки самым высоким личностям. Наверное, отплачивает миру взрослых
за то, что он с детства приучает каждого к суровой ограниченности
экзаменационного образа жизни. За все выставляют тебе оценки: за первый
крик, за плач и смех, за послушание, бодрость, за умение сложить первые
заученные буквы в слове. Кто привык получать, впоследствии сам будет
раздавать направо и налево. Ничто не исчезает, но и не рождается из ничего.
судьбах и собственных характерах, принимались за проблемы общие, упорно
возвращались туда, где сгорела их юность, которую теперь упрямо и безнадежно
пытались повторить и возродить, хотя и чувствовали страшную свою
половинчатость, раздвоенность между вчерашним и нынешним. Война поселилась в
их душах навсегда, выкинуть ее уже не могли, снова и снова вспоминали ее,
оставаясь вдвоем в своей обшарпанной огромной комнате с видом на Стамбул и
Париж, с бурбонскими лилиями, с клопами, с царским ложем Кучмиенко и
раскладушкой Карналя, этим изобретением эпохи нехваток и руин.
Кучмиенко, хоть и принадлежал к мастерам похвастать, мог рассказать разве
что чужое, поскольку сам ничем не отличился на фронте. Хотя честно отработал
три года на передовой (собственно, и не на самой передовой, а в
интендантских службах, обеспечивающих передовую всем необходимым) и
относился к заслуженным ветеранам, к которым мог бы теперь относиться и
Карналь, если бы удержался на уровне и не попал буквально перед концом войны
в руки фашистов. Карналь вяло возражал, что фронтовые заслуги должны
измеряться не тем, сколько ты продержался на передовой, а лишь ценностью
твоих поступков. Сколько был на фронте Гастелло? Годы, месяцы, дни? А
Матросов? Два или три года он был на передовой? Имеет вес не время, а
величие подвига - вот! Ксенофонт в "Анабазисе" рассказывает, как Кир, чтобы
отвоевать персидский престол, собрал десять тысяч греческих наемников и
провел их через всю Переднюю Азию, вел несколько тысяч километров для
достижения своей великой мечты, а затем в первом же столкновении с войском
Дария был пронзен копьем и погиб, не промолвив ни слова. Что можно сказать
через две с половиной тысячи лет про этот случай? Война, ради которой десять
тысяч греческих воинов перемерили тысячи километров, длилась всего несколько
часов, а этот поход человечество помнит и поныне. Кучмиенко не разделял
такого взгляда Карналя. "Анабазиса" он не читал и не слыхивал о его
существовании. И при чем тут греки и персы, когда речь идет о нас? Тот Кир
был просто олух, если полез под вражеское копье, а десять тысяч греков -
обыкновеннейшие дурни, раз они отдали на погибель того, кто им столько
обещал.
уже не так резко и категорично, как в первые дни, теперь это движение было
замедленным, плавным, уже и не поймешь - отбрасывается ли голова назад или
склоняется наперед для поклона. Кучмиенко становился прекрасным парнем,
душой общества, хотел быть добрым для всех, к Карналю тоже добрым, а раз
так, то мог бы предостеречь его от неосторожных поступков. Известно же, что
поступки идут вслед за словами, вот Кучмиенко и спешил спасти товарища
своевременно, предостеречь его на стадии слов, проявить необходимую заботу и
бдительность, так сказать, авансом. Это прекрасно совпадало с невысказанным,
но последовательно проводимым в жизнь постулатом того человека, о котором
спорили по ночам два запальчивых студента-математика, о том, что после
победы бдительность следует удвоить.
разговоры. Но он был слишком углублен в науку, изо всех сил пытался
заполнить пустоты своего ума, нашпиговывал голову знаниями, иногда
хаотичными, иногда даже ненужными, хватался за все, не удовлетворяясь
программным материалом, завидовал Кучмиенко, умевшему с такой изысканностью
обходиться тем потрепанным томиком, который он не выпускал из рук, да
встряхиванием чуба, в чем приобретал все большую ловкость. Был Карналь
словно бы и до сих пор тем Малышом из концлагерной команды, слышал голоса
Профессора и Капитана, ощущал их присутствие, жизнь воспринимал с доверчивой
наивностью даже тогда, когда видел всю ее безжалостную оголенность (а было
это у него, наверное, чаще, чем у всех других, особенно же у таких, как
Кучмиенко). Еще несознательно, но точно умел определить, что существенно, а
что нет, и твердо верил в свое назначение. Потому и становился часто жертвой
спровоцированных бессмысленных споров, а раз так, то что могло помешать ему?
Кучмиенковы разглагольствования? Глупости и пустяки. Отдых для ума, один из
способов лишиться избытка эмоциональной энергии, так как наука, пока ты ее
поглощаешь, а не отдаешь, не творишь, часто может вызвать скуку и даже
некоторую душевную ограниченность.
Айгюль. Да и с самим Кучмиенко они рассорились по другой причине.
свеклу, облитую коричневым соусом, чтобы походила на мясо. Свекольная диета
не способствовала полетам мыслей в высокие сферы, Карналя понемногу
подкармливал Кучмиенко, которому время от времени привозили из далекого
совхоза сало, мясо, яйца, мед. Тогда Кучмиенко собственноручно сооружал
увесистые котлеты, каждой из которых можно было сбить с ног недокормленного
студента, они загоняли на базаре полученную по карточкам пайку хлеба,
разживались "горючим" и устраивали холостяцкий ужин.
в роду такие добрые. У меня батько директор свиносовхоза, знаешь, скольким
людям он помогал и помогает? Эвакуировал свой совхоз, кормил людей в тылу, в
сорок четвертом вернулся домой, на голом месте вновь организовал совхоз, как
и в тридцатые годы, снова кормит людей...
подкармливают, чтобы заколоть. А человека? Мучился унизительностью своего
положения, хотел бы сам быть таким добрым, как Кучмиенко, но не мог. Для
увесистых котлет не имел мяса, а для уступчивости в спорах не обладал мягким
характером.
Расписал, как поедут они поездом до Вольных хуторов, как встретят их там на
пароконных санях, как перескочат через Днепр, ну, а уж в совхозе - там
рай!..
не мог, так что согласился без особых уговоров. Кучмиенко взял с собой два
фанерных сундучка, словно набитых кирпичом, так они были тяжелы, нагруженные
ими, студенты втиснулись в бесплацкартный вагон и поехали через заснеженную
степь от моря до Днепра. Замерзшие, затаившиеся степи лежали точно чужие, в
балках и на склонах навеки застыли не виданные тут звери: "тигры",
"пантеры", фашистская мразь, побитая советским металлом. Гигантский музей
войны, мемориал подвигов советского солдата, а где-то под глубокими снегами
- вечно живые и молодые надежды земли и ее хозяев.
Кучмиенко. - Ну и степи же у нас, нигде в мире таких нет!
Кучмиенко не захотелось. Рассказать, как гонял тут на своей трехтонке от
складов боеснабжения до батарей? Но этим Кучмиенко не удивишь. Всю войну
пробыл на складах, отправлял оттуда машины, ждал новые. Не все возвращались?
На то война.
Чтобы не терять времени, решили идти пешком, к тому же Кучмиенко обещал путь
легкий и короткий. Мешали тяжелые сундуки. Не приспособишься, как взяться
получше. Пока под ногами была наезженная полозьями дорога, можно было как-то
тянуть, а когда спустились с высокого берега на днепровский лед, весь в
струпьях, в лишаях из намерзшего снега, в предательских проталинах, сквозь
которые ты мог спокойно отправиться на дно без оха, без вскрика, тут Карналь
уже потихоньку начал проклинать и сундук, и Кучмиенко, и прежде всего самого
себя за то, что поддался уговорам и поехал. Все же они перебрались через
Днепр, уже и сами не понимали, как это им удалось в сплошной темноте, в
завывании ветра, в снежной вьюге, среди сугробов с реденькими кустиками
краснотала. Занудливо завывал ветер, посвистывали тоненькие прутики. Ни тебе
стежки, ни следа, куда тут идти, как, до каких пор? Если бы еще не было этих
трижды проклятых сундуков. Получалось, что они мучительно мечутся среди
зловещего свиста ветра, без сил, без надежды.
самым свою волю и независимость, швырнуть прямо под ноги Кучмиенко, никогда





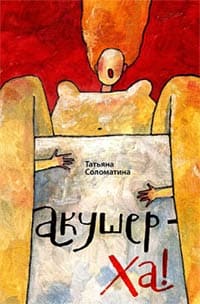
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Лондон Джек
Лондон Джек Самойлова Елена
Самойлова Елена Елманов Валерий
Елманов Валерий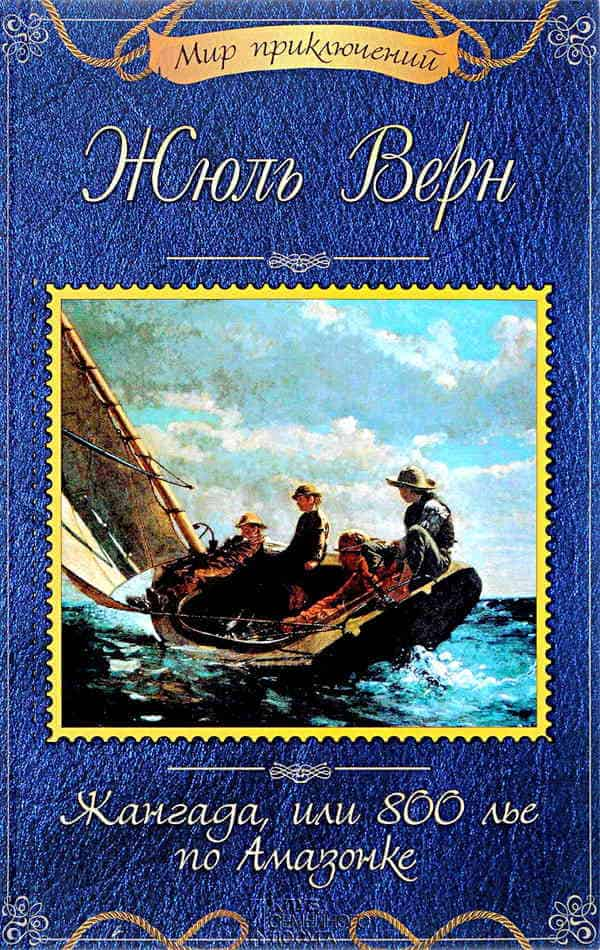 Жюль Верн
Жюль Верн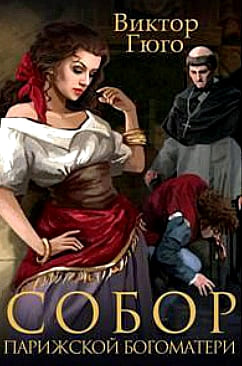 Гюго Виктор
Гюго Виктор