работы, и для дороги. Вспомнил и о своем галстуке. Запутанный рисунок.
Красное, белое, голубое. Такой галстук улучшает самочувствие. Кому, когда и
зачем?
темный, как и костюм. Кто научил этого всегда легкомысленного парня такой
серьезности? Неужели дела конечные могут влиять даже на людей
наилегкомысленнейших?
думал, что есть такие чуткие люди на свете...
на короткое мгновение отступиться от страшного, оба с признательностью
вспоминали теперь ту, собственно, постороннюю для их семьи женщину, далекую
от их горя, но, выходит, и не далекую...
надеясь и уже ни на что не надеясь.
Ждали вас три дня. Будут ждать еще до вечера.
галстук.
долго не выпускал их из своих каменных тисков, из уличных ограничений, с
зарегулированных перекрестков, и, когда под шинами мягко застучали бетонные
плиты Бортницкой дороги, когда плакучие ивы печально склонились к ним с
обочин, провожая маленькую неистовую машину на Переяслав и дальше на
Золотоношу, Градизск, Кременчуг, когда увидел солнце, что мчало им
наперерез, перечеркивая небо наискось, недвусмысленно целясь упасть со своей
неустойчивой высоты, он забыл обо всем на свете, тронул Юрия за плечо,
сказал умоляюще:
выехали, а сегодня утром звонила Людмила, я сказал. Они ждут.
Ирклиив, глубоченные балки, глиняные горы, бесконечные воды Кременчугского
моря, в Градизске чуть не столкнулись с "Москвичом", который шел на левый
поворот к придорожному ресторану и не хотел их пропускать по прямой, считая,
что его ресторан - важнее всего остального, Кременчуг срезали почти по
касательной, проскочили окраинами на Полтавскую дорогу, через Псел - по
мосту, который, кажется, проложили саперы для танков еще в сорок третьем
году. Солнце падало катастрофически. Оно уже чуть держалось, еще
разлохмаченнее, еще более сумасшедшее, чем возле Киева, уже давно как бы и
не светило вовсе, потому что все вокруг было серо-темное, будто Карналь
смотрел на мир через закопченное стекло. Юрий, бледный, спавший с лица, гнал
маленькую машину так, что чудо, как она еще не разлетелась на куски, не
разбилась, не перевернулась. Колеса бились о твердое покрытие шоссе, и вся
машина больно ударялась о тугой воздух, который словно стекался отовсюду,
сбивался, густел почти до железной твердости, словно какие-то злые силы
решили преградить путь этим двум людям, и они же разбесновавшимися
космическими ветрами сдували солнце с неба, гнали его на край неба, в
сумерки, в ночь.
него батько был всегда бессмертный, оставался живым. Карналь слышал его
глуховатый добрый голос, проступали строки его бесчисленных писем с
подробным перечислением всего, что произошло в селе с людьми, животными,
деревьями, травами, строки о сельских рождениях, радостях, о несчастьях и
смерти, о новых и старых песнях, любимых еще отцами, и дедами, и
прадедами... "Ой, крикнули cipi гуси на ставку в яру..."
захода солнца. Застать отца. Если увидит его, тогда он для него будет жить
всегда. Не может умереть. Ибо отцы не умирают никогда - они живут в детях, в
своих сыновьях...
своей, которую тот, неизвестно, способен ли понять.
сверху, а ей навстречу снизу поднималась еще гуще, еще мутнее, и две эти
столь неодинаковые темноты сталкивались высоко над землей, и черные вихри
падали на солнце и толкали, толкали его книзу - темно-красное,
взлохмаченное, усталое.
Просяниковская гора заслонила от них солнце, словно бы настала настоящая
ночь, так что даже Юрий впервые за всю их страшную дорогу встревоженно
взглянул на Карналя. Но тот теперь уже был уверен, что успеют, успокаивающе
показал глазами: гони!
Озер, возле Максима Живодера, потом на центральную улицу, к высокому
зеленому забору, к воротам...
дворе пожилые женщины, какие-то все маленькие, в темных тяжелых платках,
хлопочут у столов. Множество столов посреди двора. Еще не расставленные, еще
в беспорядочной ломаности линий, но уже угадываются два длинных ряда. С
"круглого стола" интернациональных споров о судьбе человечества - сразу за
столы, расставленные в батьковом дворе. Столы безнадежно длинные и
узкие-узкие, точно корабли в море вечности. А пожилые женщины возле, как
бессменные рулевые. Первыми принимают нас, когда мы приходим на свет, и
первыми провожают.
Дома культуры, увидел все.
успел сказать женщинам. Упал в машину. Безмолвно крикнул: "Туда!"
понять, откуда могло взяться тут столько людей? Или сошлись со всей степи?
Не заметил глубокой колдобины посреди улицы, машину подбросило высоко вверх,
она упала на землю, наверное, уже разбитая вдребезги, но покатилась дальше,
заскрежетала тормозами перед самой толпой, вся тысяча, а может, две, десять
тысяч лиц обернулись, глянули в сторону Карналя, как он изнеможенно вылезает
из "Жигулей", как одеревенело становится на ноги, как незряче ступает - по
мягкой пыли - мимо всех, сквозь широкий проход, образованный для него
людьми, идет к гробу отца, поставленному на машину, чтобы везти к кладбищу,
потому что солнце уже заходило угрожающе и быстро, а обычай должен быть
соблюден, как соблюдают его те женщины, что омывают покойника, в последний
раз моют ему голову, снаряжают на тот свет таким же чистым и честным, как
прожил он свою долгую трудовую жизнь на этой земле, среди этих людей.
что-то шептали ее пересохшие, запекшиеся губы, кажется, утешали его, Петра
Карналя, - хоть и неродного, но ведь ее же сына. А рядом - Людмила, какая-то
необычно высокая, в черном кожаном костюме, в черной шали, постаревшая на
целых десять лет. Заплаканные глаза, красные, как рана - без дна... Ее
поддерживали двое или трое... Кажется, его дядя Дмитро, кажется, тетя Галя,
двоюродный браг Игорь, Зинаида Федоровна, товарищ детства Василь Гнатович.
Собственно, он знал здесь всех, оглянись лишь на людей, на их руки, все
вспомнишь, потому что и не забывал никогда, и они тебя помнят, потому что
тоже не забывали никогда и не забыли.
маленькому сердцу. Теперь фурчал мотор. Приглушенно, смирно, виновато.
Цивилизация. Та самая, будущее которой отстаивал он еще три дня назад. Кузов
машины с откинутыми, будто заломленными, бортами. Точно руки в отчаянии.
Красный гроб. Поздние осенние цветы. Мраморный блеск успокоенного отцовского
чела. Трудовые медали на алых подушечках. В изголовье съежилась старая
женщина. Прокопиха. Оплакивает всех в селе уже полсотни, а может, и всю
сотню лет. Машина тихо тронулась. Кто-то подсадил Карналя. Он сел у гроба,
сжался калачиком, как маленький мальчик. Перед отцами - дети всегда малые.
Поцеловал отца в лоб. Ударило неземным холодом, будто от всех памятников
мира. Батьку, чего же ты такой холодный? Это я, Петрик. Успел, прилетел,
примчал. Батьку!
теперь возле батькова... Говорят, уже академик... Да все равно - ребенок...





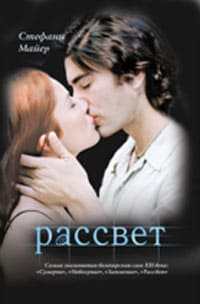
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел Корнев Павел
Корнев Павел Березин Федор
Березин Федор Березин Федор
Березин Федор Василенко Иван
Василенко Иван