повидать сыночка перед смертью, да не повидал, а теперь сыночек рядом с
тобой, а ты и не взглянешь, и не увидишь. Разве так уж нагляделся на белый
свет, что не хочешь и глаз открыть? Да разве так уж наработался, что сложил
свои рученьки изгореванные? Да и разве так уж наговорился, что не скажешь и
слова своему сыночку?..
Свернуть стороной, чтобы степью, не было уже времени. Дальше понесли гроб на
руках. Карналь взялся первым. Его осторожно отстранили:
напоследок посветить людям в их скорбном деле. Печальная процессия выбралась
из Педанивской балки на плоскую просторную гору. С одной стороны Педанивская
балка, с другой - темное море приднепровских лесов, еще дальше - беспределье
вод, на далеком куцеволовском берегу вереница первых вечерних огней.
Красивое место выбрали озеряне для своего последнего отдыха. "I Днiпро, i
кручi..."* Могилу отцу выкопали возле обелиска славы. Под ним покоились те,
кто освобождал село в сорок третьем. "Рядовой Майоров и 96 воинов"...
Странное сочетание: Майоров, а рядовой. Погиб совсем молодым, как и его
девяносто шесть товарищей. Чтобы умирали тут только стариками. Ох, Майоров,
Майоров, как виноваты мы перед тобой на веки вечные!
заглянул в могилу и увидел, как она по-степному безмерно глубока, безнадежно
бездонна, упал возле мертвого отца на колени и заплакал тяжко, неумело, рвал
сердце себе и всем. Батьку мой, батьку, рыдаю над тобой в своем одиночестве,
без тебя, без тебя навсегда, навеки! Батьку!
рядом и бормотал:
Андреевич, дорогой...
осель, та й вони на материнських могилах безкрило ридали, склавши опаленi
крила на вiко труни..."
своего заместителя, молодого доктора наук Гальцева, надежду науки и надежду
его, Карналя, Мишка-лесника, его Шурку, Федора Левковича, секретаря райкома
Миколу Федоровича...
небо, светилось все вокруг, тишина наступила такая, точно улеглись все
ветры, исчезли все шорохи, вздохи, шепоты. Зинька открыла траурный митинг,
предоставила слово секретарю территориальной парторганизации Василю
Гнатовичу ("Ох, Василь Гнатович, Василь, Васюня, катались мы когда-то с
тобой босиком на льду на радостях, что Резерфорд расщепил атомное ядро, а
отцы наши все равно умирают и после того..."). Он говорил долго и с
неожиданной для Карналя страстью. Рассказал, как Андрий Карналь организовал
первый в их селе колхоз. Как еще в гражданскую прятал комбедовские документы
от банд. Как во время оккупации не покорился фашистам. Как всегда умел
работать. Как любил людей и как любили его люди. Один из самых старейших и
самых уважаемых. Основатель. Ветеран.
Поведал, может, впервые этим людям, кем стал их земляк, сын этого простого
деревенского человека, на похороны которого сошлось все село.
захолодевшее - все в неземном холоде - батьково чело и когда жестокие
молотки отозвались скорбным тупым стуком - забивали крышку гроба.
каждый подходил к могиле, бросал пригоршню земли. Взял и Карналь пригоршню
сырой земли, нагнулся над ямой, а высыпать на батька не мог - не разжимались
сведенные судорогой пальцы. Земля сыпалась и сыпалась из людских рук, аж
звенела, жестокая, совсем не похожая на ту, на которой он родился, бегал
босиком в коротенькой рубашонке. Она билась о гроб, как об его сердце. Звук
тяжелый и мучительный. Начало забывания.
вернусь. Собственные планеты лепят жуки-скарабеи. Ах, суета... Из тебя пошел
и в тебя вернусь..." А та, давняя и вечная, стояла у него перед глазами в
молодой красе, единственная на свете, удивляла и чаровала. Ночи золотые от
ясных звезд; могучая растительность в широких плавнях; тысячелетние дубы на
Тахтайской горе, опаленные молниями, но вечные в своей твердости;
беспредельные разливы днепровских весенних вод и миллионошумный посвист
птичьих крыл над ними; вольготные ночи с таинственными звуками в их глубинах
и вековечными страхами; радостные рассветы, которые несут надежду; шелковое
дуновение ветра над солнечными полями; аромат отав осенью; зимы белые, как
лебединое крыло, - ни забыть этого, ни расстаться с ним.
темноту насквозь, видел отчетливо, до боли в глазах, всех, кто подходил,
чтобы поддержать его, видел высокую пирамидку из венков на могиле отца,
сравнявшуюся высотой с обелиском рядового Майорова и его девяносто шести
товарищей. Горестные обелиски памяти.
Галя, двоюродный брат Игорь, еще брат Женько, племянники, кажется, даже
внуки. Должен бы ты быть старым, Карналь, а чувствуешь себя безутешным в
горе мальчиком.
склонился ему на плечо. Дядя Дмитро пробормотал где-то в темноте:
людей!
есть машина. Карналь нерешительно промолвил:
усадьбе ждут люди. Многие уже туда поехали. Помянуть деда Андрия. Как велит
обычай.
Простите...
пальцами в толстой шерстяной шали. Он опять крепился, должен был теперь
крепиться долго-долго.
вас...
полколхоза на улице, у ворот, полно людей было в саду, во дворах Ковальских,
Слисаренко, Живодеров. Все хотели выпить последнюю чарку за деда Андрия,
сказать доброе слово.
электричества. Отец всегда водил сына по усадьбе, хвалился: "Тридцать шесть
электролампочек". Даже в курятнике имел электролампочку. Как американский
фермер. Мировой уровень.
хате, где стол накрыт был для родных, Карналь с ужасом увидел, что под
потолком, в окнах, всюду - тысячи мух. Ни выгнать, ни истребить, ни спастись
от этих вестниц смерти, серых, надоедливых, невыносимых.
стол, что в беседке.
ногой. Немного полежал, чего с ним не бывало никогда в жизни. "Как дед
Корний, - подумал Карналь. - Тот тоже никогда не хворал, прожил восемьдесят
шесть лет, в сорок третьем, когда внук Женько принес запал от гранаты, дед
выхватил у малыша опасную игрушку - и оторвало руку не Женьку, а деду. Деда
повезли в больницу за двенадцать километров, и единственное, что он сказал
врачу, пока тот обрабатывал рану, было: "Ох, iстоньки хочеться". А в
восемьдесят шесть неожиданно заболела у него нога, покраснела, стала жечь,
дед лежал на печи, стонал: "Ох, моя ноженька!" Через три дня умер. Гангрена.
А у батька, оказывается, тоже что-то с ногой".
ждал, пока она сама скажет. Тут лишнего не говорят.
амбар. Там на ногах целый день, а дома - тоже. Потом вздумал почистить
погреб. Все он казался ему неглубоким. Полез - никто и не видал. Да как
взялся бросать оттуда глину - целый самосвал, наверное. И тут стало ему
плохо. Запекло под сердцем, есть ничего не мог. Все вспоминал тебя, Петрик,
ждал. За ночь отпустило, повезли в Светлогорск, в больницу. Там уж и поел
немного, и ночь переспал. А утром пришел доктор. "Ну, как вам, дедушка?" А
он то ли слышал, то ли нет, говорит: "Подведите меня к окну. Может, сынок
едет..."
сестры, но представлял себе, как было в то утро, потому что знал своего



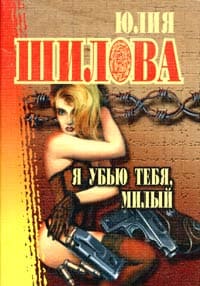


 Посняков Андрей
Посняков Андрей Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна Мурич Виктор
Мурич Виктор Акунин Борис
Акунин Борис Сертаков Виталий
Сертаков Виталий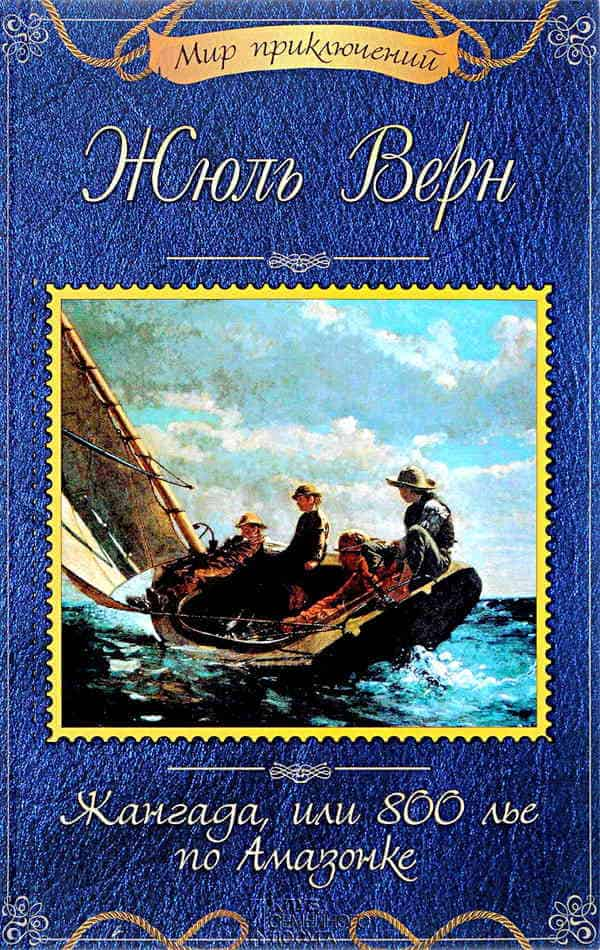 Жюль Верн
Жюль Верн