Быть с человеком рядом, прикасаться к его руке, видеть блеск глаз, слышать
его голос и не сказать ничего, а теперь, когда ты отделен холодным
расстоянием, лихорадочно искать слова, которые бы бросил электрическим
сигналам, чтобы они понесли их и донесли... Какое кощунство!
нормально.
наблюдают эту сцену. - Наведаюсь в удобное время. Для себя и для вас.
откинулся на спинку кресла. Неужели все то, что он пережил вчера, было
наяву? И почему человеку суждено переживать столько смертей? Неужели
недостаточно смерти собственной, которая неминуемо ждет тебя и о которой не
думаешь никогда в великом разгоне жизни, где место твое определяется
усилиями, способностями и честностью, но где, оказывается, не существует
меры страданиям? Неупорядоченность жизни? Нет, это слово не подходит.
Невольно придется употребить иные слова: иррациональность, слепая стихия.
Открывается тебе так же, как неизбежность, перед которой все бессильно. И
какой же высокий дух надо иметь, чтобы не сломаться, не ужаснуться перед
этими неодолимыми силами! Что все электронные машины мира против дикого
хаоса случайностей, кто может определить пути каждого человека и кому дано
познать грядущее? Где-то, может, умирают от голода вероятные гении,
неразгаданные светлые таланты, сброшенные на самое дно существования, серая
будничность пожирает способности человеческие, глотает их ненасытно и
непрестанно, мелочность, суета, коварство, преступное равнодушие, принимая
личины благопристойности, изо всех сил выкарабкиваются на поверхность бытия,
миллионы врачей, сотни лауреатов Нобелевской премии, а человек болеет
больше, чем какое-либо живое существо на земле, мы замахиваемся на
конструирование целых миров, нетерпеливо ждем того дня, когда получим (а
получим ли на самом деле?) искусственный интеллект, а между тем неспособны
создать даже наипримитивнейший одноклеточный организм и никогда его не
создадим. Его мысли не отличаются бодростью... Согласен. Но тут уж ничего не
поделаешь. Так все складывается. А может, это его характер? Или чрезмерная
образованность, которая иногда вредит в повседневной жизни, вынуждая на
каждом шагу к поискам чуть ли не абсолюта? Как у Бэкона: "Касательно же
низких или даже отвратных вещей, что о них, как сказал Плиний, можно
говорить, лишь предварительно испросив позволения, то и они должны быть
приняты в истории не меньше, чем самые прекрасные и самые драгоценные. Ибо
то, что достойно бытия, достойно также знания, каковое является отображением
бытия".
стремился спастись от боли и переживаний в мертвых полях математических
абстракций, выбирая себе специальность в назначение? В самом деле,
непосвященным всегда представляется, будто абстракция абсолютно пуста: в ней
ни боли, ни уязвимости, ни восторга. Елисейские поля блаженного равнодушия и
незаинтересованности судьбой всего сущего. Но когда входишь в этот мир
чисел, когда постигаешь эту фантастическую механику соотношений, связей,
сцеплений, перестановок и сопоставлений, когда осознаешь неизмеримое величие
этой самодовлеющей, на первый взгляд, техники мышления, то открывается тебе
то, что должно было открыться сразу: нет ничего в деятельности человеческой,
что было бы сокрыто, навеки заточено в ловушку от разбушевавшихся страстей,
подобно тому, как улавливается миллионоградусная плазма безысходности мощных
лазерных ударов.
страданий и обреченности, а он становится совершенно бессильным, как в
первый день после своего рождения, хотя еще недавно дерзко замахивался даже
на нерушимые законы природы.
знаний с природной чувствительностью, которая заставляет тебя по-мальчишечьи
замирать сердцем, услышав в ночном, взвихренном первыми весенними ветрами
небе всполошенное курлыканье журавлей, или цепенеть в удивлении перед первым
несмелым листочком на белой березе. Он никогда не проникался мыслью: что бы
сделали на моем месте Юлий Цезарь, князь Кропоткин или Че Гевара? И вот
теперь, после таких невыносимых тяжелых ударов судьбы, как смерть Айгюль и
смерть отца, может ли он не страдать, неправдиво похваляясь закаленностью и
упорядоченностью духа, который должен был бы стать твердым от многолетнего
созерцания порядка в числовых соотношениях? Никогда! И надо это признать не
только перед самим собой, но и перед людьми, и люди поймут, простят минуту
слабости, потому что ты не бежишь от них, не замыкаешься в своем горе, а
ищешь их общества, жаждешь приюта в мире, назначенном тебе и твоим
товарищам, освященном святой силой разума. "Но путь назад к своим
первоосновам, отыскивает мир, рождая числа, соизмеряет шествие планет и
славить учится начальный опыт сознаньем, мерой, музыкой и словом. Всей
полнотой любви, всей силой смысла"*.
предназначений должно быть: освобождаться от них. Батька нет больше, но он
остался в тебе вечным наказом делать людям добро и наивысшим ощущением
дисциплины. Умер батько, и как бы умерла ответственность твоя перед миром.
Невыносимое ощущение. Цивилизация безотцовщины - самое страшное, что только
можно себе представить. Но всегда должна жить в тебе вечная подотчетность
перед батьковой памятью. Именно теперь ты обязан уметь увидеть порядок за
видимым беспорядком, красоту в видимом безобразии, моральную глубину под
внешней сумятицей. В себе и во всех других. В себе и в других.
людской доброты залетела в просторное помещение и встала на часах. Никто не
беспокоил директора, все уже, наверное, знали о новом его горе. Дурные вести
летят на больших крыльях. Все знают, и все сочувствуют. А он не привык к
сочувствию. Наибольшее благодеяние в суровости суждений, а не в
снисходительности. Все объяснили это его академической требовательностью к
себе и другим, а Карналь мог бы сегодня признаться, что это неопределенные
замашки еще детской жестокости. Вспомнилось внезапно, неожиданно
далекое-далекое. Как у деда Корнютки умерла жена, бабка Корнииха, и дед,
маленький, несчастный, сломленный горем, с рассвета до сумерек сидел на
завалинке, голодный, безутешный, раскачивался, будто пытаясь убаюкать свое
безутешное отчаяние, стонал: "О моя голубочка! О моя родненькая! Что же я
без тебя буду делать?" А они, мальчишки, выглядывая из-за тына, свистели,
хохотали, издевались над стариком, неспособные постичь его горе, до краев
заполненные своей беспечной детской жестокостью. Теперь, вспомнив этот
случай через четыре десятка лет, Карналь даже покраснел и горько покаялся в
душе, хотя и понимал, какое неуместно запоздалое это раскаянье чуть не через
полстолетия. Раскаяние имеет цену только тогда, когда оно своевременно. А
так - это все равно что отнять жизнь у человека, обвиняя его в тягчайших
грехах, а через сто лет объявить его героем. Стыдиться никогда не поздно.
Каяться - вряд ли.
мысли, что он один и что сегодня его уже никто больше не потревожит ни
телефонным звонком, ни появлением, ни словом. Всегда остерегался навязывать
свою крестьянскую психологию отношения к труду своим сотрудникам, у которых
должно быть гарантированное, четко очерченное рабочее время, тогда как
крестьянин не знает расписания часов, так как над ним вечно тяготеет
необходимость подчиняться ритму времен года, законам произрастаний,
дозреваний, времени сбора плодов... там планируются не дни и недели, даже не
месяцы и годы - наперед расписана вся жизнь, и это дает особое ощущение
свободы, знакомое только тем, кто видел, как колосится пшеница, слышал, как
падают дозревшие яблоки в садах, вдыхал холодные ароматы осенней калины. Для
себя Карналь никогда не устанавливал ни рабочего дня, ни выходных и
праздничных дней, но строго следил за соблюдением у других, особенно у
подчиненных. Поэтому сегодня неожиданное появление Алексея Кирилловича
озадачило его еще больше, чем разговор с Гальцевым.
здесь быть? Вам же столько досталось за эти дни.
неожиданности и выставил перед грудью папку с перепиской, словно оборонялся.
- Петр Андреевич, ну что это вы такое говорите? О чем вы?
правительственная. Также от его семьи. Из Москвы. Академия наук.
Министерства...
Слова как бы растравляли его рану. Не надо, сегодня уже ничего не надо!
перечислять. Я хотел сказать: наверное, сегодня не нужно слов.
говорю словами... Когда я говорю, я говорю..." Так узнаешь ценность слов
молчаливых. В них есть нужная необходимая сдержанность - от чрезмерного
обилия слов тает материя мира.
Кириллович.


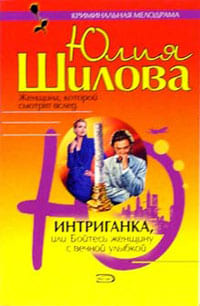
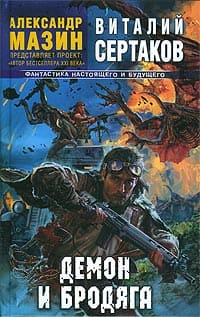
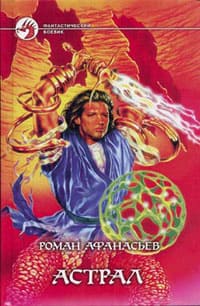
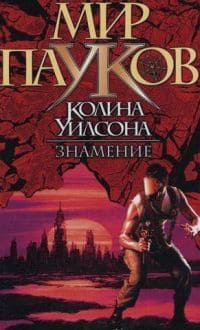
 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс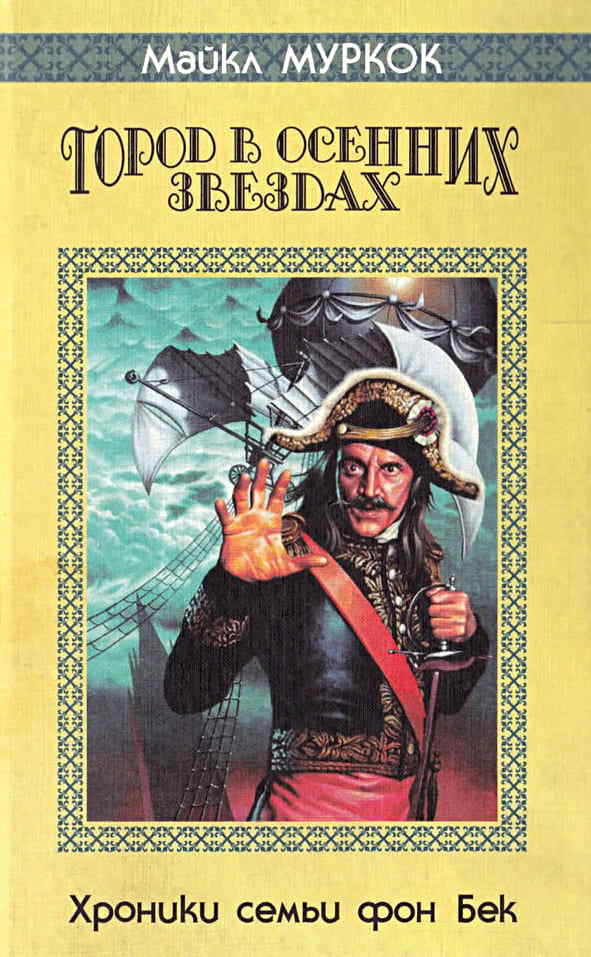 Муркок Майкл
Муркок Майкл Прозоров Александр
Прозоров Александр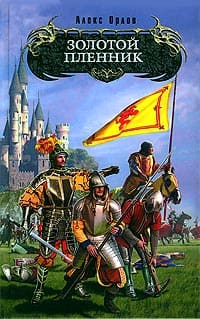 Орлов Алекс
Орлов Алекс