бы не стал нести, если бы его заставляли, а тут получалось так, что взялся
добровольно, согласился поехать с товарищем, товарищ тоже тащил такой же
сундук, не бросает его, не жалуется, не ропщет, хоть устал не меньше, так же
часто останавливается, так же пробует то нести сундук на плече, то тянуть
его, зацепив ремнем от брюк, то даже толкал перед собой, когда переходили
Днепр. Кучмиенко точно рисовался своей выдержкой, своим упорством, и Карналь
не хотел ему уступать. Если уж на то пошло, разве он не выносливее, разве не
выстоял в испытаниях, какие Кучмиенко и не снились!
дозвонюсь до совхоза, вызову сани. Сани - это красота!
был на фронте водителем трехтонки, возил снаряды на батарею, привык,
собственно, больше к машинному, а не к пешему передвижению по этой земле,
хоть со временем и стал лейтенантом пехоты...
огоньки, то оно и есть. Вон там, прямо.
точно под самое завьюженное небо, черное, холодное, неприступное. Пока
барахтались в снегу, боролись с ветром и своими сундуками, блеснули
откуда-то сбоку чуть заметные огоньки. Огоньки появились совсем не там, где
Кучмиенко ждал, были какие-то неверные, блеснули и исчезли, словно бы кто-то
зажег спичку, а ветер ее мгновенно загасил. Но потом снова блеснуло желтым,
только теперь огоньки словно бы перебежали на другую сторону, то могло быть
и село, разбросанное вольно по широкой балке, но ведь ни балки, ни села -
сугробы, дикий свист ветра и мелькание холодных светляков в
неопределенно-угрожающих перескоках, приближениях и удалениях. А потом в
ледяной посвист ветра вплелся прерывистый, безнадежный вой, вырвался словно
бы из-под земли, ветер швырял тот вой прямо в лицо двум заблудившимся
путникам, рвал его, уносил в бесконечность, а он снова пробивался сквозь
темную сдавленность, были в нем отчаянье, голод, страшное одиночество.
волки!
ощутимыми, близкими, ужасными в своей оголенности, чтобы теперь бояться
чего-то неуловимого, нереального, тех призрачных огоньков из темноты и
темного сдавленного воя. То ли волки, то ли ветер, то ли все пространство
стонет, плачет, мучится. А они оба, хоть и измученные до предела
изнурительной борьбой с ветром и снегом, хоть исчерпали, кажется, все свои
силы, таща за собой несуразные тяжелые сундуки Кучмиенко, все-таки живы - и
никакие дьяволы не помешают им добраться туда, куда они хотят добраться! Вот
только куда и как еще далеко?
ним то увеличенный темнотой до размеров просто ужасающих, то внезапно почти
уничтожаемый, слизанный ветром, так что в темноте усталый глаз едва
улавливал неверные контуры его фигуры.
волки! А ну, открывай свой сундук!
"Го-го-го!" Ветер загнал хохот ему назад в глотку, но Кучмиенко снова
захохотал, на этот раз еще громче, пересиливая ветер, крикнул Карналю:
что-то затарахтело, загромыхало, он сунул вслепую руку - сундук был полон
пустых бутылок!
могло быть бессмысленнее? Переть через бездорожье и заносы сундуки с
порожними бутылками? Может, Кучмиенко хотел поизмываться над товарищем или
попросту рехнулся? Но ведь и сам тоже тащил сундук, полный пустых бутылок? -
Бутылки?! - снова спросил темноту, которая должна была быть Кучмиенко и
загадочностью и бессмыслицей в одно и то же время.
Давай!
далекие переблески, во вражеский вой, в темный свет. И Карналь тоже
преисполнился бессмысленной дерзостью, стал хватать бутылки, что было силы
замахиваться и метать их то в одну сторону, то в другую, ему казалось, что
от каждого броска далекие светлячки волчьих глаз перепуганно отскакивают,
разлетаются, угасают, когда же они зарождались в другом месте, он бил
бутылкой туда и снова гасил холодный взблеск и словно бы затыкал волчью
глотку, так как вой становился все отчаяннее и задавленное.
ногами порожние фанерные сундуки, громыхали ими, перекликались, кричали
ветру в его обезумевшее лицо, оба распалились, размахались, готовы были идти
до самого края ночи, через всю степь и всю зиму! Что им степь, что им
темнота, что им какой-то там вой!
как дали?
бутылки.
тьме почти до утра, так и не смогли найти село, лежавшее совсем рядом,
внизу, в долине, только на рассвете наткнулись на два темных ветряка и
спустились в долину. Кучмиенко потирал руки, обещал, что вызовет по телефону
сани из отцова совхоза, но Карналь хмуро заявил, что с него достаточно
дурацких странствий, и вообще в таких снегах все равно, пробираться ли еще
двадцать или сто двадцать километров. Он решил идти домой, к своему батьку,
хоть перед тем и писал ему, чтоб не ждали его из-за зимнего бездорожья.
нужен был носильщик для порожних бутылок...
а устроился в университетском общежитии.
прикомандированного к нему орла с заданием долбить непокорному титану ребра.
Человек в век информации прикован к подножью вулкана обязанностей, и на него
спадают потоки лавы. Чем выше поднимаешься в общественной иерархии, тем
мощнее потоки летят на тебя, нет спасения, нет отдыха, нет надежды
избавиться от них пусть хоть на короткое время, избежать, укрыться, где-то
пересидеть. Студенческие годы Карналь вспоминал, как что-то историческое,
почти фантастическое. Было ли это на самом деле? Никто о тебе не слыхал, не
знал, никому ты не был нужен. Теперь никто не вспоминал о том, что ты
ученый, что у тебя буквально болезненная потребность мыслить, что это форма
твоего существования, назначение в этой жизни. Какой ученый, какое мышление,
какое назначение? Директор научно-производственного объединения, член
президиума двух Академий наук, член коллегий трех министерств, консультант
пятнадцати министерств, член редколлегии нескольких академических
издательств, депутат Верховного Совета, почетный член шести зарубежных
научных обществ, действительный председатель, почетный председатель, комитет
по премиям, жюри, общества охраны памятников, природы, совет молодых ученых,
Дом технического образования, комсомол, красные следопыты, радио,
телевидение, газеты, встречи с трудящимися - все хотят слышать, знать про
кибернетику, и все только от Глушкова или от Карналя, никаких замен,
никакого снижения уровня, все имеют право, все заслужили, для всех ты слуга,
о тебе же подумать, выходит, некому. Право на мышление? Для этого есть
совещания. Коллективный способ мышления. Столкновение мыслей? Но ведь для
того, чтобы мысли сталкивались, их надо иметь. Нужно время, время, время,
нужны часы одиночества, нужна личная жизнь. А по телевизору мальчики в
шелковых сорочках, покачивая электрогитарами, поют: "Сегодня не личное
главное, а сводки рабочего дня..."
без Айгюль. "...Пришла весна, - но лишь острее и еще горючей душа звенящей
болью пронзена". Машиной упрямо не пользовался, ходил пешком (это
воспринималось как очередное чудачество академика Карналя), терял на этом
множество невозмещенного времени, не имел возможности навестить Людмилу,
проживавшую на Русановке, звонил ей, обменивался несколькими словами с
дочкой, обещал приехать в гости. Людмилка сочувственно вздыхала. Когда же


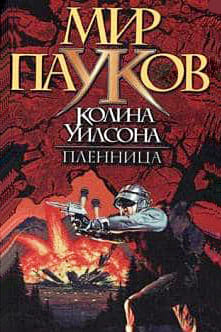
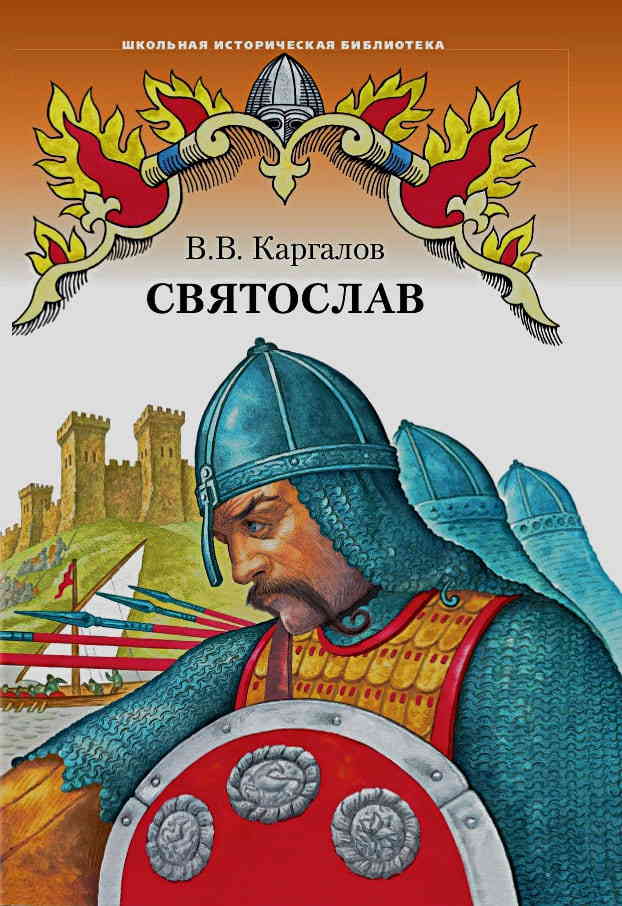
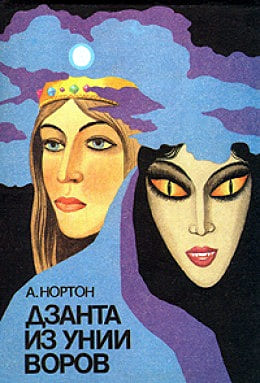
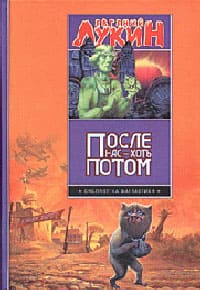
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор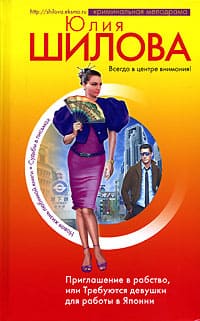 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Мурич Виктор
Мурич Виктор