крае. Сколько же сил затратил - страшно подумать! И согласись, Петр
Андреевич, не корысти ради, а только ради идеи. Но как оно в жизни? Одни
ради идеи, другие возле них - растут, остепеняются, омедаливаются и
озолачиваются. Разве это справедливо - я столько энергии и жизни положил на
алтарь науки, а сам до сих пор только кандидат наук? Кандидат в науку! Что
за бессмысленное звание! И до каких же пор? Давно за пятьдесят, на здоровье
не жалуюсь. Еще бы ждал, да статистика подталкивает. Пора докторства...
развеселить его, отогнать печаль этими разглагольствованиями? Пора
докторства - как пора любви. Изучил всю статистику об ученых...
Время выбрал не совсем удачное, да уж так вышло. Как только готов будет
автореферат, тебе принесу первому, Петр Андреевич. И надеюсь, поддержишь. А
о теме помолчу. Пусть хоть это - сюрпризом.
задвигались, как живые существа. Так и перелезут на стол и накинутся на
Карналя, точно фантастические антропофаги!
ознакомления? Я и не требую. Лишь бы в принципе...
снова усесться, может, и надолго. - А если хочешь откровенности, то скажу
больше.
думаешь: где от меня было бы больше пользы - в науке или на директорской
должности?
свете!
всегда будет!) гений техники и гений организации, а я его не пустил сюда?
лицу.
Хотя бы на примере Гальцева, с которым никогда не сравнюсь - как с
практиком, конструктором, генератором технических идей, без коих наших машин
не создашь. Не буду бить себя в грудь, не полезу на трибуну, но ошибку свою
осознать никогда не поздно и не грех. Теперь хочу спросить тебя: зачем тебе
повторять мою ошибку?
Если же кинешься в науку... Да еще в таком возрасте...
Андреевич, ты не святой Петр-ключник, а наука - не рай, который бы ты запер
на замок. Она доступна всем в нашем обществе. А возраст? Я изучил
статистику. Больше всего докторских диссертаций защищают после пятидесяти.
Зрелость, брат, верхоглядство пропадает, остается в человеке пристойность,
солидность. А для науки что нужно?
надо было затевать весь этот разговор. Все-таки в моем состоянии... Сам не
думал...
со своим кувшином на капусту. А ты еще меня в организаторы... Какой из меня
организатор? Ты домой? Может, подвезти?
как тысяча тридцатая. Домой не хочется...
свое многолетнее поведение с Кучмиенко, ненавидел за все и ничего не прощал.
К чему свести науку? К географии и топографии, к киевской прописке. Мол, я
уже двадцать лет среди ученых, а сам до сих пор не ученый. Талант и
порядочность не зависят от географии. Но Кучмиенко не хотел этого знать. У
него логика начальника паспортного стола. На работу вас возьмут, если
получите прописку, а прописку можете получить, если получите работу. Моряком
можешь стать лишь тогда, когда живешь в Одессе, министром - когда прописан в
столице, академиком - когда можешь пешком дойти до академии за четверть
часа. Убийственно простая и убедительная логика кучмиенок. Месяцами пешком
добираться, а потом годами пробиваться в истинную науку, как Ломоносов, -
это не для них. Ну, так. А где же был ты? Наша демократия разбудила таланты,
но бездарности - тоже. Ибо если талант просыпается, бездарность тоже не
хочет спать и торопится захватить выгодные позиции, отодвинуть талант, чтобы
самой лучше себя чувствовать. Знал ли ты об этом и учитывал ли в своей
работе? А может, Кучмиенко - это твой антипод, душевный шлак, который
скрываешь даже от самого себя, живой укор собственному несовершенству? Ты
считал, что люди идут за тобой лишь потому, что принадлежишь к тем, за кем
идут. Но разве Кучмиенко не думает о себе так же? Ученые - это люди,
ошеломленные научными идеями. А разве Кучмиенко не относился к людям
ошеломленным? Он заинтересован механикой делания карьеры, а не развития
науки, но постороннему уловить эту разницу почти невозможно. Один растет
благодаря своим достижениям в науке, другой творит рядом свое параллельное
жизнеописание, которое опирается на прислужничество и подхалимство, он тоже
растет - благодаря каким-то неведомым и непостижимым связям, знакомствам,
покровительству и поддержке, напоминая мираж, порождаемый невидимыми
предметами согласно неизвестным законам преломления. А легко ли разобрать,
где ценность истинная, а где фальшивая? Ведь даже ложь не может состоять из
одной неправды. И если он, Карналь, так долго держал Кучмиенко возле себя и
спокойно созерцал, как тот занимает чье-то место, то, следовательно,
содействовал не только одному Кучмиенко, а и той части кучмиенковщины,
которую имел сам? Неутомимый в перечислении (пусть и молчаливом) собственных
достоинств. Привык к фимиаму, ощущая его запах еще издали, ноздри трепетали
у него от алчности, охотно подставлял лицо под дождь похвал. Кто это -
Кучмиенко или Карналь? Слишком чувствительный к проявлениям человеческой
глупости, Карналь часто не давал никому раскрыть рта, считая, что право речи
принадлежит ему по положению, и превращая, таким образом, демократию в
респектабельную форму диктатуры. А разве Кучмиенко не трактовал понятие
демократии так же в своих собственных интересах?
удавалось вызвать расположение к себе. Только отпугиваешь. Когда-то был
религиозный догматизм, человечество его отбросило, не приняло оно и
догматизма политического, интеллектуальный догматизм, кажется, принадлежит к
самой страшной разновидности, те, кто его исповедует, добрыми быть не могут,
они по-своему жестоки, в своей надменности не стремятся даже быть понятыми,
они не знают и не прощают никаких отклонений, никаких отступлений, малейших
отказов от их собственного мнения. Их не убеждает даже пример Галилея, что
иногда только отказ от собственною мнения делает жизнь возможной. Человек
думает не потому, что у него есть мозг, а мозг у него есть потому, что он
думает, так же как крылья у птиц для того, чтобы летать. Но все ли способны
к полету? И вот тут появляется улыбающийся, добродушный Кучмиенко со своею
упокоительно-циничной формулой: не каждый может стать великим, но постоять
рядом с великим может. Или: если не все умеют мыслить, то есть умеет каждый.
И Карналь, понимая, что Кучмиенко обращается к слабостям людским, держит его
возле себя. Он нужен ему для устранения напряженности, для избежания
расхождений, для примирений и разрешений конфликтных ситуаций. Когда
Кучмиенко сам выдумал для себя должность заместителя по общим вопросам,
никто не знал, что это такое, Карналь тоже не знал, но смолчал, согласился,
с тайным удовлетворением наблюдая, как Кучмиенко превращается в Великого
Обещальника, как принимал на себя все бури и страсти человеческие, смягчал,
благодушничал, похлопывал по плечам: "А, голубчик, что тебе? Квартиру,
прибавку, орден, "Жигули", телефон, путевку? Приходи, подпишем, все
будет..." Было или не было, а все обходилось, Карналя не беспокоили, он рад
был, что ему дают возможность сосредоточиться на главном, и никогда не
думал: какою же ценой? А цена была: Кучмиенко. Теперь тот переступил межу
бесстыдства (странно, что так поздно, мог бы и раньше), его уже не
устраивает ни положение, ни, так сказать, образовательный ценз, ему хочется
наивысшего научного уровня, потом он потребует лауреатство, потом примется
спихивать Карналя с директорства, и, ясное дело, не в пользу молодого
Гальцева, а в свою, ибо ведь он - величина! Все воробьи серы, но не для
воробьев. И если Карналь мирился с серостью Кучмиенко, то разве не сер он
сам? Коммунизм и Кучмиенко - несовместимы. Эти понятия просто враждебны. А
Карналь и коммунизм? Знак равенства? Если бы он мог очиститься от наслоений
человеческих слабостей, которые, к сожалению, иногда преобладали!
пошел по стеклянной галерее к производственным корпусам, где уже кончалась
смена, но царила спокойная деловая атмосфера, все светилось молодостью,
радостью, вдохновением, ибо тут даже в механических цехах, какие на всех
заводах отнюдь не относятся к самым чистым, сияние от множества мелких
латунных и бронзовых деталей создавало ощущение праздничности и порядка.
Начальник цеха гальваники, такой же молодой, как и все здесь, в ответ на
вопрос директора о делах, засмеялся:
передали все нам, теперь восемьдесят процентов роста производительности
труда! Скажи - никто не поверит!
ни комсомол, ни профсоюз, ни я, ли сам господь бог. А тут еще наша тетя


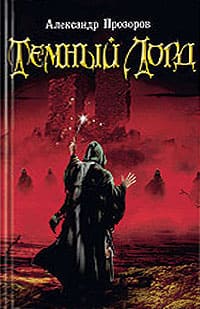



 Посняков Андрей
Посняков Андрей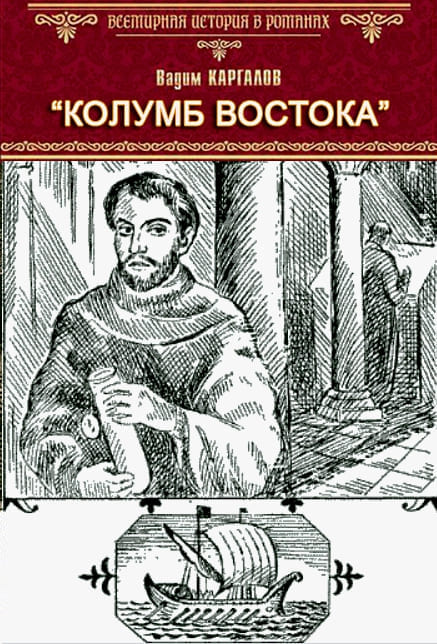 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Свержин Владимир
Свержин Владимир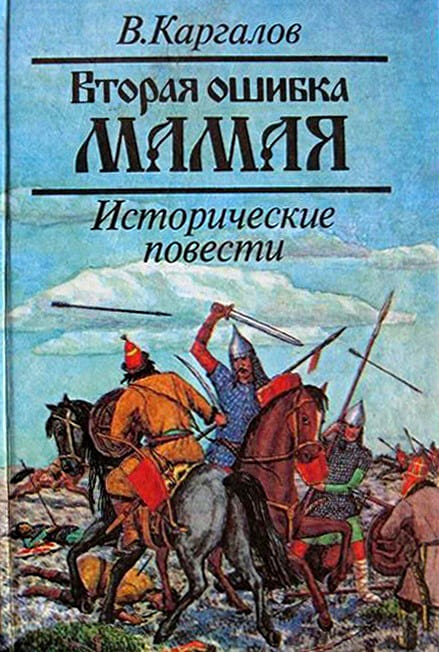 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман