только из-за Совинского...
интересовался никогда. И вот хочет ехать.
Мы с ним уже старые. Старые и одинаково несчастные... Ты этого не понимаешь,
Алексей Кириллович, правда ведь, не понимаешь? Ты считаешь, что советский
человек не может и не имеет права чувствовать себя несчастным. Считаешь
ведь?
Алексей Кириллович.
целым, невредимым и бодрым. Звони.
посылал его помощником к Карналю, велел обо всем докладывать, ссылаясь на
свою любовь к академику. "Мы с ним товарищи еще по университету, - говорил
он, - и я еще тогда поклялся оберегать этого уникального человека от всех
бед и потому требую этого и от тех, кто работает с ним". Свои обязанности
Алексей Кириллович помнил твердо и выполнял их даже тогда, когда приходилось
поступать вопреки собственному характеру. Характер же у него был добрый,
отличался человечностью и сочувственностью. Он умел забывать о себе самом
ради других, его никогда никто не спрашивал, доволен ли он своей работой,
счастлив ли, есть ли у него любимая жена, не нуждается ли он в поддержке или
помощи. Помощник - и все. Человеческая система для выполнения разнообразных,
порой причудливых, не предвиденных никакими закономерностями функций. А
может, он мечтал стать ученым, государственным деятелем, спасителем
человечества? Кто же его спросит? Помощник - и будь им. Не преувеличивай
слишком собственной значимости.
даже тогда, когда его никто не просит, не заставляет. Так и на этот раз,
немного обиженный чрезмерно равнодушным тоном Кучмиенко (хотя у того всегда
был равнодушный тон в разговорах об академике, что мало вязалось с
заверениями в дружбе с университетской скамьи), Алексей Кириллович захотел
сделать доброе дело. Он вспомнил красивую, хоть, впрочем, странноватую
молодую журналистку, которая тщетно добивалась у академика интервью, быстро
нашел ее телефон и позвонил. В редакции сказали, что Анастасии на работе
нет. Была и куда-то ушла. Алексей Кириллович решил быть настойчивым в своей
доброте и попросил номер ее домашнего телефона. Днем ему никто не ответил,
он позвонил поздно вечером, и она сняла трубку.
Анастасия.
тон ей ответил Алексей Кириллович. - Не желая быть навязчивым, я все же
рискнул позвонить вам так поздно, чтобы...
металлургический завод...
работой в Киеве. Но уж если выезжает...
окружения, обстановки...
женщина, вы имеете дело с газетным работником, и церемонии излишни.
нет денег, кроме того, я выеду в четверг. И вы мне не говорили ничего, я не
надеялась встретиться на заводе с академиком Карналем.
Алексей Кириллович.
помощника. Обычная человеческая благодарность, а чувство такое, будто тебя
наградили высшим орденом. Вдруг ему показалось, что в запутанных
секретарских механизмах произошла ошибка и этот разговор записан, как
продолжение беседы с Карналем. Этот и тот, что с Кучмиенко. Алексей
Кириллович представил себе постные лица "параметров", услышал их скучающие
голоса, увидел, как деланно внимательно доискиваются они в его словах
научных истин, и его охватил такой ужас, что он опрометью выскочил из
кабинета.
воскликнула секретарша.
не имеют под собой никаких оснований, мгновенно успокоился и обычным своим
тоном попросил:
кто сделает добро мне?"
себе никакого следа, и он углубился в кучу писем, которые передал ему
Карналь для ответа.
Андреевича?
Гайлиевна, но никто не верит.
знаете?
событиях, все для него омрачалось теми страшными несколькими месяцами
концлагерей, хотя именно оттуда, может, вынес наибольшее умение ценить
человеческую мысль. Взлети, моя мысль, на крыльях золотистых!
"бомба-генералов", то есть смертников, которые должны были извлекать из
земли авиационные бомбы, почему-либо не взорвавшиеся. Ежедневная игра со
смертью, игра слепая и безнадежная. Две недели Профессор и Малыш избегали
смерти, потом попытались бежать еще раз. Снова им сначала как будто повезло,
но снова бессмысленный случай, еще раз их выдали почти как прежде с
Капитаном. Профессора автоматная очередь уложила насмерть, Малышу
прострелила грудь, чуть живой он был привезен в лагерь, брошен умирать. Но
снова повезло: подошли американцы и захватили лагерь со всеми, кто там был:
живыми, полуживыми, умирающими и мертвыми. Напичканный американским
пенициллином, Карналь очутился в Париже у представителя Совета Народных
Комиссаров, оттуда был немедленно переправлен в Марсель и советским
теплоходом вместе с сотнями таких же тяжелораненых, как и он, доставлен в
Одессу. Из иллюминатора он видел теплое гомеровское море, сквозь круглое
отверстие прямо в глаза юноши заглядывал Неаполь с зеленым конусом Везувия,
проплывали мимо Карналя крутобережные архипелаги Эгейского моря, в сизой
мгле поднимался над молочными водами Босфора Стамбул. Ох, проплыть бы там
здоровым и сильным, выйти на берег, увидеть белый мрамор Парфенона, зеленые
колонны Софии Константинопольской, вдохнуть ароматы лавра и роз, ощутить на
лице ветер, который надувал паруса еще Одиссею и запорожцам!
были переполнены. Карналь не увидел города Профессора, ничего не увидел,
кроме безбрежных разливов воды. Потом снова плыли, теперь уже по своему, по
Черному морю, плыли на Кавказ, но и на Кавказе все госпитали были
переполнены. Карналя везли все дальше и дальше, теперь он смотрел из окна
санитарного поезда, видел горы, угадывал клокотанье рек, касания ласкового
ветра. Плыли затем по Каспию, осталась уже позади Европа, в которой родился,
где умирал, но не умер, где сражался и уже как бы прожил бесконечно долгую
жизнь. Посреди Каспия догнала весть о победе. Раненые кричали, плакали,
смеялись, потрясали забинтованными и загипсованными руками, кто мог,
обнимался с товарищами. Победа догнала их, и тут, среди волн, вдали от
войны, они не имели под собой даже земли, чтобы твердо встать на нее ногами,
убедиться в своей целости, дать самые радостные в своей жизни залпы салюта.
Зато было над ними безупречно голубое небо, и сама Победа представлялась
безграничным чистым, голубым, радостным праздником, равного которому еще не


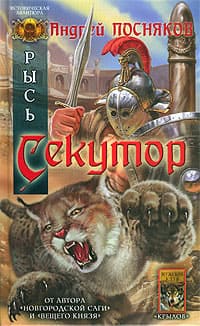



 Прозоров Александр
Прозоров Александр Корнев Павел
Корнев Павел Акунин Борис
Акунин Борис Апраксина Татьяна
Апраксина Татьяна Посняков Андрей
Посняков Андрей Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей