лет назад...
самую нижнюю ветку, блеснула перед Карналем белыми стройными ногами,
по-мальчишечьи ловко и быстро полезла выше и выше, и у Карналя вдруг тоже
возникло нелепое желание карабкаться вслед за Анастасией в это украшенное
резными дубовыми листьями поднебесье.
стараясь пригасить темное неистовство крови и с ужасом ощущая полное свое
бессилие.
улыбкой, не то умышленно, не то и впрямь обессилев, несколько раз не
попадала ногой на сук и угрожающе повисала, еле держась, а сердце Карналя
падало всякий раз в пропасть, от ужаса он зажмуривался.
сучья все же слишком высоко от земли, она никак не могла решиться спрыгнуть,
примерялась, колебалась, прицеливалась, потом, крикнув: "Держите!", упала
прямо в его раскинутые руки, он отчаянно обхватил ее, его ослепило ее
смеющееся лицо, обожгло прикосновение груди, бедер, взорвалось в теле
какое-то гигантское тропическое дерево с тысячами корней и миллионами веток,
с сочными листьями и яркими цветками, в запахах и красках, способных вызвать
и дрожь и смех. Все в нем содрогалось от того дерева, и какой-то смех бился
в груди. Но он превозмог себя, он должен был держаться любой ценой, хотя был
всегда и до конца человеком, имел горячую кровь и пылкое воображение.
Бережно поддержал Анастасию и поставил ее на землю, точнее говоря, оттолкнул
от себя, а потом подал туфли.
брошенное...
летом? Покупаться бы в этом озере! Вы знаете, почему люди любят купаться?
счастливые! Они снимают с себя все и остаются самими собой. Хотите, я покажу
вам лосиные холмы?
сила несла их выше и выше, над ними было небо, вокруг никого и ничего, кроме
молчаливых деревьев. Они не слышали даже птиц, только шелест сухих листьев
под ногами, биение собственных сердец и тишина, тишина. Анастасия держала
Карналя за руку, он держал Анастасию. Кто кого вел, завел, свел? И снова
молчали, словно нечего было сказать друг другу, а потом, когда оказались на
одном из круглых холмов под стройными молодыми дубами и ударило им в лицо
багряностью предзакатного солнца, Карналь, словно впервые заметив, что
держит руку Анастасии, несмело спросил:
красоты, что следовало бы засмеяться им обоим, но Анастасия невесть почему
испугалась, выдернула руку, отбежала от Карналя, закричала почти отчаянно:
достойна... Не надо! Нет, нет...
Карналь идет за ней, не захотела бросать его здесь одного, должна была
вывести с этих холмов, и лишь когда снова миновали озеро и очутились у
подножия разрушенного старой сосной холма, Анастасия, с прежним пугливым
упрямством, подбежала к Петру Андреевичу, обдала его своим тонким теплом,
оставила ему на щеке обжигающее прикосновение губ и бросилась бегом к
машине.
чем еще...
а с нею покатилось и сердце Карналя. Или не покатилось? Не мог и не хотел
себе этого сказать. Пробовал гнаться мыслью за Анастасией, оттесняя от себя
все запреты и опасения. Нежданно-негаданно становилась для него дьяволом,
соблазном, обещала избавление, спасение от угнетенности духа, от страдания,
которое угрожало разрастись до размеров нежелательных. Она почему-то
представлялась ему как бы синонимом вечности и бессмертия, но ведь была
просто женщиной помимо всего этого, а он? Не смешная ли он фигура рядом с
ней? И не нелепость ли это его странствие в молодость? Расцвет души? И в
такое время, когда душа твоя изранена, изболевшаяся, почти разрушенная.
Разве не противоречит это законам природы, человеческой моральности и просто
здравому смыслу? Но здравый смысл - это косность и ограниченность, против
которых ты всю жизнь боролся, а природа ведь так своевольна! Счастье - в
чувствах, бесчувственного счастья не существует. Влюбляются даже министры,
президенты, диктаторы. А как быть с академиками? Хотя они в большинстве
своем стары, но ведь каждому дурню известно, что "любви все возрасты
покорны". Это дурню. А если ты... математик? И все привык считать,
сопоставлять? Числа, наверное, возникли так же непрослеженно, но и
закономерно, как и слово "свобода", поэтому пользоваться и тем и другим надо
осторожно и ответственно. Пятьдесят и двадцать пять или тридцать - как
сопоставить?
где поцеловала его Анастасия, созерцая, как покрывается пятнами маленькая
полянка, на которой еще недавно стояла маленькая машина, как удлиняются,
пересекаются, переплетаются тени деревьев, как уходит день... А на небе
кто-то зарезал поросенка и обрызгал кровью горизонт... Мозг был выдут из
черепа ветрами. Ни единой мысли. Только какая-то пустота, неспособность ни
на что, ожидание чего-то... Вернулось бы то, что три десятка лет назад.
"Люблю. Женимся. Айгюль..." Верил, был уверен, что Айгюль для него не
повторится никогда. Но выходит, что можешь изменять даже самому себе. В
схожих лицах та же физиономическая идея... Лейбниц: от ума до сердца длинный
путь... Безрассудно. Все безрассудство... удвоенное блаженство дается нам в
жизни через радости тела и в спасительном спокойствии духа... Какое
спокойствие? Для кого? Разве что для тех, кто отличается туповатой
жизнерадостностью?
в портфеле, сверху очутилась диссертация Кучмиенко. Неужели надо это здесь
читать? Он присел на табурет, полистал немного отпечатанную на ксерографе
(Кучмиенко пользовался всеми благами техники) рукопись, потом, волоча за
собой диссертацию, как дохлую кошку, вышел во двор, остановился возле тех
золотистых, привядших от ночных осенних холодов астр, попытался
сосредоточиться на чтении, но ничего не мог понять. Лишь теперь до его
сознания дошли слова Анастасии: "Приеду в то воскресенье". С ума она сошла?
Закинуть его сюда на целую неделю! Почетное самоустранение. Бегство.
Безумие!
стал растапливать печь. Почувствовал, что спасение только в простейших
действиях. Ходить, двигаться, хлопотать по мелочам, отгонять от себя даже
намеки на какие-либо мысли. Стал готовить суворовское рагу по рецепту
Анастасии, постлал постель, бездумно глядел на огонь, пробовал вспомнить,
когда вот так в последний раз приходилось ему сидеть перед огнем, и не мог.
Вспомнив слова Анастасии о том, что вода в кринице "с бромом", долго и жадно
пил. Может, заснет и проспит всю неделю? Тогда о нем напишут в газетах там,
где пишут, как лось забрел в гастроном или как двое пьяных съели лебедя
Ваську в зоопарке.
костюме, с французским галстуком неумело толкает ухватом в печи: от
неосторожного движения горшок с рагу опрокинулся, вода вылилась, ухватом
достать горшок никак не мог, пришлось вооружаться какой-то палкой, весь
выпачкался сажей, вспотел, издевался над собой, снова налил в горшок воды,
продвинул его к огню, вышел из хатенки.
которых он до сих пор не слышал, видимо оглушенный присутствием Анастасии.
Стоял в щебечущем мире, на который надвигался мягкий осенний вечер, и птичьи
голоса вспыхивали, как яркие огоньки в пространстве. Совершенная
бессодержательность птичьих голосов, одни лишь переливы звуков. От этого
можно было сойти с ума в безнадежном одиночестве, к тому же добровольном.
Забыв про огонь в печи и про свое суворовское рагу, Карналь медленно пошел
вниз, забредал в сумерки, как в густую воду, как в невысказанную скорбь.
Этот лес, несмотря на его первозданность, все же производил впечатление
чего-то ненатурального. Осень стояла слишком сухая, воздух нагревался, как в
летние дни, был такой сухой и упругий, что скрипачи об него могли бы
натирать свои смычки. Тут хотелось бы столетних мхов, туманов, терпких ягод,
веприного рыка и взрытых полян под дубами. Но мог ли он сегодня с
уверенностью сказать, чего ему хочется? Всегда стремился к наивысшему


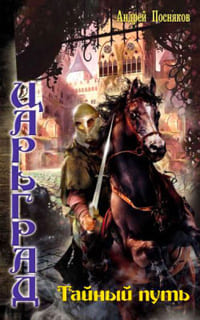
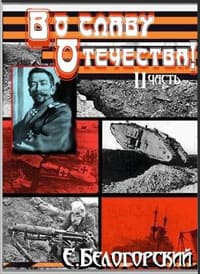


 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий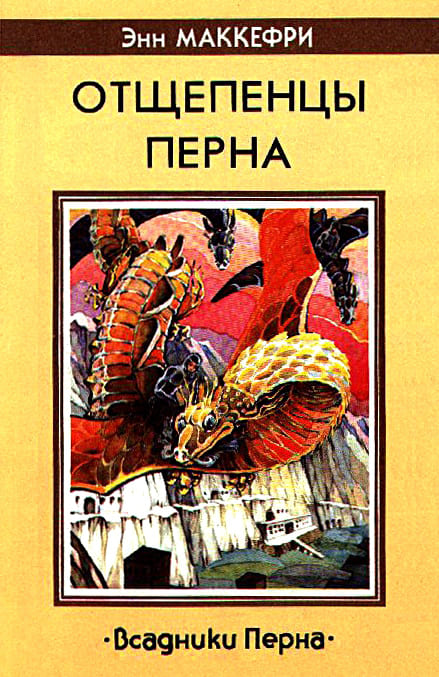 Маккефри Энн
Маккефри Энн Махров Алексей
Махров Алексей Куликов Роман
Куликов Роман Махров Алексей
Махров Алексей Маккарти Кормак
Маккарти Кормак