существованию, неужели оно и тут?
ее заменило призрачное сияние лунного света, ночь обещала быть светлой,
сухой, тихой, про сон Карналь даже не вспоминал, "бромированная" вода не
действовала. Он вдруг вспомнил про огонь в печи, про свое рагу, чуть не
бегом бросился в гору по склону, еще издали почуял запах подгорелого,
напомнивший ему почти забытый фронтовой запах каши, подгоревшей в котле
полевой кухни, вбежал в хатенку, заглянул в печь, схватил рогач. Перед
простейшими вещами проявляешь неожиданное исчезновение твоего человеческого
престижа. Не странно ли?
ли тут есть когда-нибудь, но огонь нужно было поддерживать, пока не лег
спать, потому что огонь прогонял одиночество, был товарищем, собеседником,
живым, теплым существом среди пустынных горизонтов лесного бесконечного
времени. Дрова были сухие, занимались быстро и охотно, огонь полыхал
молодой, веселый, беспечный и, так сказать, бесстыжий в своей прекрасной
наготе. Молчаливый хохот, бронзовый вечный смех бил в Карналя от того огня.
Наверное, так улыбались каменными улыбками ангелы с фасадов соборов, что
веками стояли среди пожаров и дымов, и провоцирующе подмигивала человеку
вечность, приглашая вот так гореть, полыхать, сиять. Одни гибли на кострах
судилищ, другие сгорали в полыхании мифов, третьих пожирал огонь тщеславия.
А чистое пламя вдохновения вело к вымечтанной стране открытий только тех,
кто, не щадя усилий, пытался раздвинуть узкие пределы человеческих
способностей, возможностей и сил.
ребенок конфету во рту: я тут, как зверь в зоопарке, сижу в клетке, никуда
не денусь, приезжай - всегда застанешь меня на том же месте. Знал: не
приедет никто. Только в будущее воскресенье. Неделя - это невыносимо! Не мог
даже представить себе такую огромность пустого, ничем не заполненного
времени. Может, его там ищут? Может, перепугаются, мол, как бы не сделал
чего с собой... Может, может...
Карналь попытался заснуть. Умостился на топчане, залез в спальный мешок,
сено под ним шуршало, тонко попискивал, затухая, жар в печи, над маленьким
оконцем висела гигантская луна, рассеивала над лесами призрачное сияние,
уничтожая все звуки ночи, останавливая течение времени. На Карналя вдруг
напал такой страх, как когда-то в детстве, только и разницы, что тогда
страхи были неосознанные и неочерченные, а теперь как бы детерминированные в
четких категориях разума, были тысячекрат гнетущее и непереносимее, ибо шли
не от окружающего загадочного мира, а вырастали из глубин сердца, и
впечатление было такое, будто ты умер и лежишь на самом дне хаоса, откуда
уже возврата нет. Это была цена одиночества, к которому он так слепо и
неразумно стремился и которого не мог перенести, оказывается, даже едва
зацепив его краешком. А если погрузиться еще глубже?
колебания воздуха.
каждого отдельного листка с дерева, будто что-то тяжелое и твердое ударялось
о землю, как человеческое одиночество.
состоянии, когда нет у тебя сил подняться и что-то делать, хотя бы просто
посидеть и подумать или бездумно смотреть перед собой, когда спишь и не
спишь, когда словно бы и снится тебе что-то смутное и отрывистое и в то же
время сознание работает четко, напряженно до болезненности.
серебристом пространстве, и над лесами родился новый перламутрово-серый
свет. С земли, с трав и кустарников, выкупанных в холодной осенней росе,
космато поднимался туман, в который приятно было окунуться, как в холодную
воду, обещавшую бодрость. Карналь, передергивая плечами от прохлады, почти
бегом одолел расстояние от избушки до лесного озера, затерялся в низине, до
краев наполненной туманом, лес поднимался где-то недостижимо вверху, был
старый, большой и такой высокий, что становилось еще страшнее, чем ночью под
мертвым сиянием луны. Карналь подивился, что вчера не заметил этого
отпугивающего величия леса, а может, вчера его и не было, а родилось оно за
ночь в его душе, испуганной отчаянным, не присущим ему одиночеством?
Какая-то мистика и чертовщина, перед которой бессильна даже
всемогущественная его математика.
всего сущего. Поэтому она может иметь влияние даже более всеобъемлющее, чем
всемогущественная политика. Но в нетронутой природе, наверное, нет ни
внешней логики, ни математики. Только внутренняя, скрытая так глубоко и
тщательно, что открываться может лишь посвященным.
вокруг пасторальными мелодиями, на круглом холме за озером двое молодых
лосей гарцевали, точно в день сотворения мира, небо приобретало живые
колеры, вливалась в него голубизна, пронизывала чуть заметная пунцовость,
лес от этого как бы уменьшался, корявость сменялась ласкающей взгляд
округленностью, и он уже не отпугивал, шел навстречу человеку и, как бы для
заключения мирного пакта с ним, выслал с высочайшими своими мирными
полномочиями навстречу Карналю маленькую серну, которая появилась на пути
невесть когда и откуда. Стояла в нескольких шагах на пологом склоне одного
из зеленых холмов, спокойно смотрела на человека, стройноногая, с нежной
шеей, большеглазая, чистая и прекрасная. Карналь не остановился, не замедлил
шага, а пошел прямо на серну все в той же медлительной задумчивости, как
сомнамбула. Козочка не испугалась, только чуть посторонилась, сопровождала
его удивительным, почти человеческим взглядом. Когда обогнул холм, с другой
стороны в ложбине увидел старые, потемневшие от ненастий ясельки, вокруг
вытоптанная земля, засохшие, еще прошлогодние катыши. Лесники подкармливают
оленей сеном. Лес не был ни заброшен, ни забыт, ни лишен великой логики
жизни.
выходной, если уж на то пошло, принадлежал ему безраздельно.
листал свои бумаги, Кучмиенкову диссертацию отложил на потом, поскольку она
никак не подходила к этому простому быту, к нетронутости окружающего мира,
рядом с которым даже мудрейшие разговоры о математизации показались бы
упрощенно-бессмысленными.
висела старая иконка. Просто липовая дощечка, заключенная в нечто черное, -
плоское подобие ящичка, ни резного оклада, ни стекла. Время с беззаботной
щедростью оставляло на лице святого свои напластования, так что уже
невозможно было разобрать, кто там намалеван, Николай ли Угодник или сам
Спаситель, но Карналя заинтересовал не святой и не сама икона, хотя могла
быть и весьма старой и, может, редкостного письма. Его внимание привлек
краешек пожелтевшей бумаги, высовывавшийся из щели в черном иконном укрытии.
Карналь снял икону со стены, откинул два жестяных крючочка сбоку, открыл
ящичек. За иконной доской лежали сложенные вчетверо два листика бумаги,
когда же развернул их, оттуда выпала маленькая, тоже пожелтевшая от давности
фотография. Худая высоконогая девчушка, два мышиных хвостика темных волос,
глаза - во все лицо. Зеленоватые, словно тигриные. Глаза укротительницы и
повелительницы. Тоненькая ручка поднята кверху, там держит ее чья-то большая
и сильная рука, владелец которой не поместился на снимке. Отец? Такая рука
может быть только отцовской. Карналь вспомнил, что у него есть точно такой
же снимок с маленькой Людмилкой. Только у Людмилки глаза не такие - темнее и
как бы добрее. А этих глаз мог бы испугаться, если бы не знал, кому они
принадлежат. Принадлежали Анастасии. Наверное, возила снимок всегда с собой,
а тут забыла. А может, оставила, намереваясь приехать еще. Нет, вернее -
забыла. Лесник нашел и спрятал за икону, потому что больше некуда было.
апреля. Женская рука. Не знал почерка Анастасии, поэтому не мог с
уверенностью сказать, что записки принадлежат ей. Собственно, это не имело
никакого значения. Кто-то здесь был, кто-то жил с лесом наедине, прослеживал
каждую перемену, какую несла сюда весна. Карналь быстро пробежал глазами
неровные строки. Заметил, что начинается с марта, но датировано только пять
апрельских дней.
образовываются ледяные бороды.
выстреливает узкие острые листочки. Березы вверху, под самым солнцем,
закудрявились зеленым шумом. Листочки еще маленькие, сердцевидные,
сморщенные, несут на себе следы того сжатия, в каком жили в почках. Линяет
кора на березах. Облезает верхний тонкий слой, дерево сбрасывает грязную
наружную сорочку и стоит белое, нежное, как напудренная девушка. Проведешь
рукой по стволу - вся ладонь белая. Птицы - синицы, дятлы, дрозды. От них
звенит все вокруг.
домом. Клен у озера - в ясной зелени. Листья на деревьях появляются, будто
после неслышного шелковистого взрыва. А к вечеру холодный ветер. Но он не
страшен, потому что уже пришло время, когда все растет и зеленеет.
шмеля. Когда садится солнце, все пчелы улетают, шмели остаются. Легко
перелетают с цветка на цветок, не минуя ни одного, трудятся упорно и
самоотверженно. Странно, такой большой, а держится на нежном лепестке, даже
не прогибая его. Вот бы людям! Один шмель черный, с белой юбочкой. У другого
на спине оранжевый жилетик. Наверное, мужчина, франт!
Прибалтике, Белоруссии - дожди. А по всей Украине, как передает радио, - без
осадков.



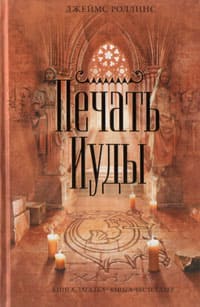
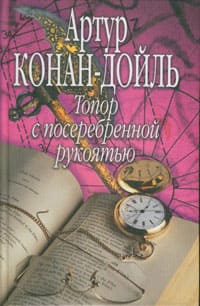
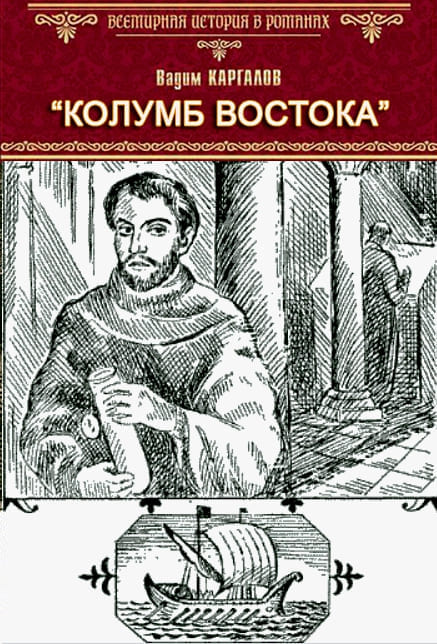
 Лукин Евгений
Лукин Евгений Каменистый Артем
Каменистый Артем Посняков Андрей
Посняков Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман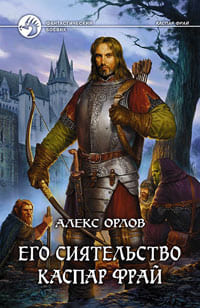 Орлов Алекс
Орлов Алекс Шилова Юлия
Шилова Юлия