знало человечество за все тысячелетия своих страданий и радостей.
все страдания войны запахами цветов и моря, а с другого берега дышала зноем
пустыня Азии, ударила в лицо жгучими ветрами, обожгла, ошеломила. Поезд
громыхал через Каракумы. В пустыне догорала весла, травы исчезали в песках,
над безводными горизонтами лишь изредка поднимались зеленые островки
станций. На мгновение взорвался зеленой свежестью деревьев и воды Ашхабад, и
снова - пустыня, фиалковая безнадежность небес, тысячелетнее молчание
песков, грустноватая неуклюжесть верблюдов, отчаянный рев ослов, туркмены в
черных мохнатых папахах-тельпеках, яркие уборы туркменок - синее, красное,
серебристое, - огненные взгляды, черные брови, черные косы...
город незабвенного Профессора, то бросила теперь в края Капитана Гайли. Но
задержится ли он тут хотя бы на короткое время или повезут его дальше, все
дальше - и не остановится он никогда и нигде, точно вечный дух непокоя и
бесприютности?
караванных путей, безнадежно старый город Мерв, называемый теперь Мары,
когда-то, наверное, сплошь глиняный, теперь кирпичный, но плохо обожженный
кирпич был цвета серой рассыпчатой глины. Тяжелая тысячелетняя пыль, тишина,
зной. Карналя повезли еще дальше, в самые недра песков, мимо каких-то
древних руин. Он бы предпочел задержаться в Марах, так как где-то поблизости
должен был находиться конесовхоз Капитана Гайли, но врачи строги, их
приговорам должны подчиняться все раненые, и его высадили в Байрам-Али, так
как у него были повреждены не только легкие, но и почки. О целебности
воздуха Байрам-Али ходили легенды, из человека там улетучивалась вся вредная
влага, там больные излечивались без всяких медикаментов, там творились
чудеса, там выживали даже те, кто не хотел больше жить. А Карналь хотел, он
ведь еще и не жил, насчитывал от рождения едва двадцать весен. Двадцать, а
уже сколько всего позади! Страшно оглянуться, невозможно вообразить!
нею, когда выздоровеет, рассказать ей о героическом ее муже, о своем
товарище, который... Написал ей в тот же день, что и отцу. Но до отца письму
предстояло идти далеко и долго, да и сохранилось ли село, может, уничтожено
фашистами, сожжено, разрушено. Карналь писал отцу в тревоге и страхе, а в
Мары послал письмо с болью, незажившие раны воспоминаний дышали в каждом
слове, однако он не мог откладывать - не надеялся, что эти раны хоть
когда-нибудь заживут.
Кто-то крикнул: "Карналь, к тебе!" Все, кто лежал в палате, оборотились к
дверям, ни у кого здесь не было ни родственников, ни знакомых, никто не ждал
посетителей, а этот малый, вишь, уже дождался, и это тем более удивительно,
что сам попал сюда из таких далеких Европ, что невозможно даже поверить в их
существование и в то, что этот мальчишка мог там быть и - главное -
выбраться оттуда живым.
изящная туркменка в длинном красном платье, в красном платке, в красных
шароварах, в мягких кожаных остроносых туфлях. Ступала мягко, неслышно,
легко, передвигалась с такой женственной грацией, что все мужчины в палате
словно бы даже всхлипнули от неожиданного восторга. Сначала никто и не
заметил, что вслед за женщиной, прячась у нее за спиной, идет девочка, почти
такого же роста, как и мать, тоже изящная, тоненькая, еще более грациозная,
вся в синем, с длинными черными косами, в тихом перезвоне серебряных
украшений на груди и в волосах.
стояла такая печаль, что Карналь зажмурился. Когда снова взглянул на
женщину, увидел, как из-за ее спины вымелькнула тоненькая девчушка, нежными
ручками положила на тумбочку большую чарджуйскую дыню.
так много рассказать про Капитана, но с ужасом почувствовал, что не сможет
этого сделать.
неуместно звучат его слова о выздоровлении, когда они обе обречены теперь
навсегда думать лишь о смерти своего мужа и отца.
головой, утверждая мамино обещание.
- десять, двенадцать, четырнадцать лет? И не угадаешь.
Капитана. Неумело и нескладно. Надеялся вызвать просветление на их лицах, но
должен был убедиться лишь в тщетности своих усилий. Легкой была бы
спасительная ложь, но не мог скрыть то, что произошло с Капитаном. Мать и
дочь плакали. Тихо, почти незаметно, чуть ли не украдкой. Раненые молча
поощряли их к слезам. Каждый из тех, кто лежал в палате, умирал на войне не
раз и не два, должны были бы и о них литься женские слезы, но никто не видел
этих слез, так что эта туркменская женщина и тоненькая девочка как бы
заменяли их матерей, жен и дочек.
одного из миллионов убитых, и это будет величайшим чудом из всех чудес на
свете.
так, словно был виноват в его смерти. Казнился своей неумелой, неуклюжей
правдивостью и тогда, когда мать и дочь тихо плакали возле него, и когда шли
к двери неслышные, легкие, как грустноватый ветерок.
Айгюль, привозила раненым темный сладкий кишмиш, орехи, сочные гранаты, обе
были немногословны, не требовали и от Карналя слов. Он научился у них
сдержанности, тактичности, внимательности, входил в их мир печали и
воспоминаний незаметно и легко, становился как бы родным им, а они роднились
с ним. Когда наконец получил письмо от отца, и вовсе стало исчезать в нем
чувство полной брошенности, которое он остро пережил в этой пустыне, посылая
без надежды письмо на далекую, разоренную войной Украину.
маленькой Айгюль он как бы возвращался в свою уничтоженную войной юность,
переживал то, что не успел пережить, прошлое отступало, чтобы дать
возможность начать почти все заново, пройти то, что должен был пройти без
войны, и вот тогда, прокладывая мост из утраченного, казалось бы, навсегда,
в неизбежное грядущее, через тысячи километров, сквозь руины и
неустроенность пробилось в затерянный в песках Байрам-Али коротенькое письмо
с Украины. Впервые в жизни у Карналя руки дрожали так, что он попросил
своего товарища по палате распечатать конверт. Только теперь вспомнил, что
никогда не получал от отца писем, потому что и сам написал ему впервые в
жизни: то жил до войны всегда возле отца, то во время войны был отрезан от
него фронтами, границами и умиранием. Впервые написал, впервые получил
ответ, и не просто ответ, а свидетельство того, что отец жив, жизнь не
остановилась, она продолжается, она неуничтожима!
танцевали перед глазами, узнавал почерк отца, вспоминал, как любил тот
писать своим братьям долгими зимними вечерами, - усаживаясь на печи, ставил
перед собой деревянный солдатский сундучок, привезенный с первой мировой
войны. Сундучок изнутри был обклеен номерами газеты-копейки выпуска тысяча
девятьсот четырнадцатого года. Отец хранил там бумагу, ручку и малюсенькую
чернильницу, низенькую, всегда наполненную чернилами, купленными еще в
Москве, когда лежал там после контузии в госпитале. Удобно умостившись,
мережил длинные листы аккуратными буквочками, описывал с невероятной
пространностью сельские события, исписывал листы с обеих сторон, и
маленького Петька поражали те листочки своею законченностью, совершенством,
почти живописностью, ибо отец словно бы и не писал, а вырисовывал свои
письма.
пришло на тебя аж две похоронки, и стали мне платить за тебя пенсию из
военкомата, а село наше фашисты все спалили, только хаты у Стрижака да у
Федора Мусиенко уцелели, потому что под черепицей, а мужчины еще никто не
вернулся с войны, и не знаем, вернется ли кто. Твоего дядю Сашка фашисты
расстреляли в Потягайловке в глинище, а перед тем в районе заставляли его
вместе с партизанами таскать по грязи санки и били его, потому как он был
командиром партизанского отряда, а кто-то его выдал. Дядька Назара Набоку
убило бомбой, уже когда наши наступали, а немцы бомбили переправу, так
дядько Назар хотел спрятать корову, мы его отговаривали, а он уперся,
побежал за коровой, бомба как гахнула, так ни коровы, ни дядька Назара. Меня
полицаи дважды хотели расстрелять, когда нашли у нас портрет Сталина,
который моя жена Одарка Харитоновна, а твоя мачеха, спрятала в мякине на
чердаке. Ну, не расстреляли, а из хаты выгнали, так мы всю войну жили в
землянке, а теперь и все село в землянках, потому что фашисты, как


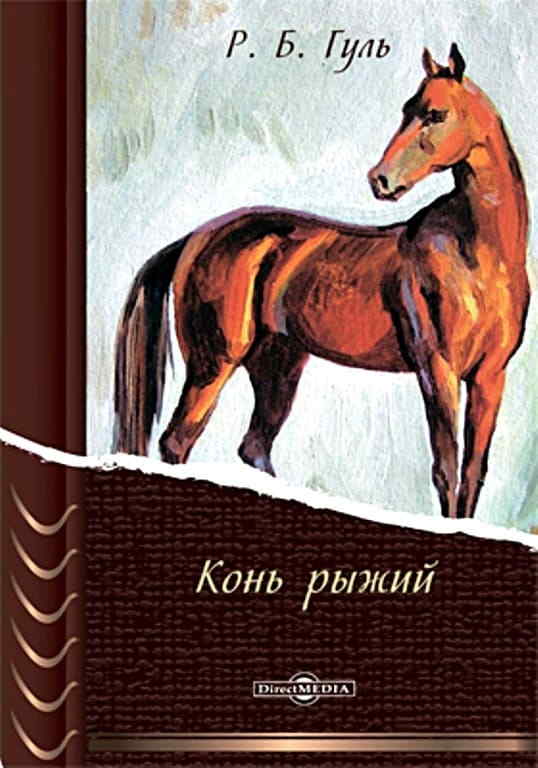



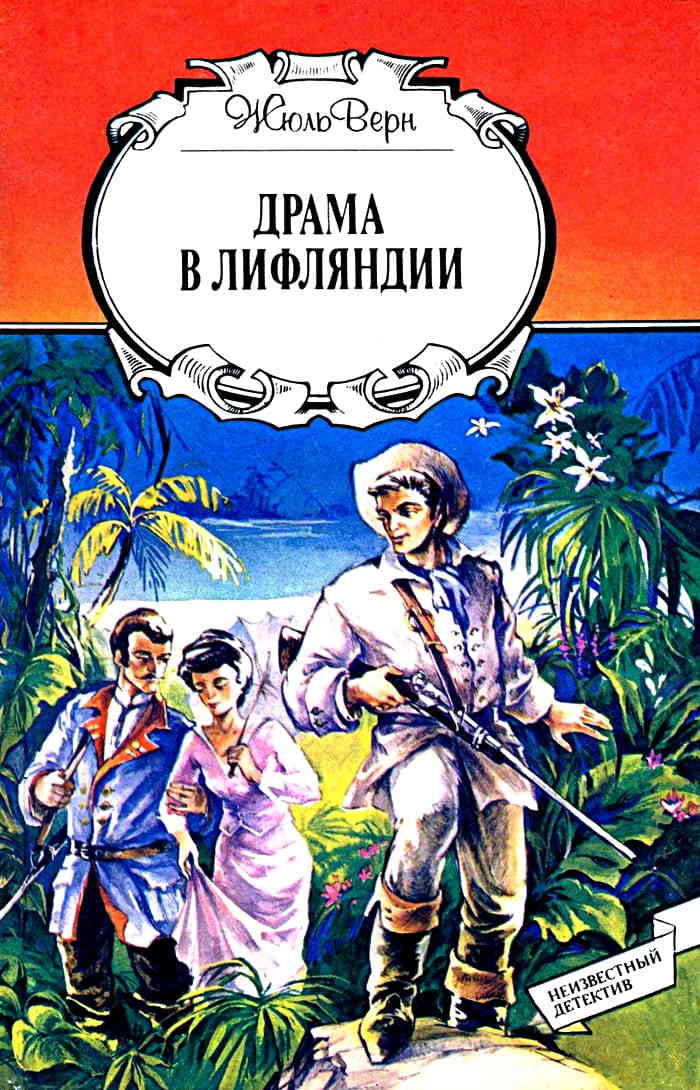 Жюль Верн
Жюль Верн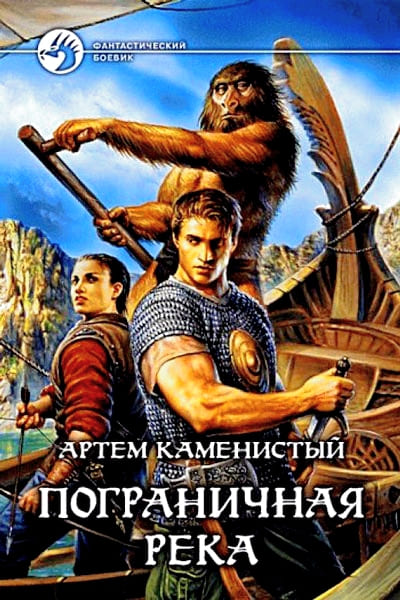 Каменистый Артем
Каменистый Артем Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия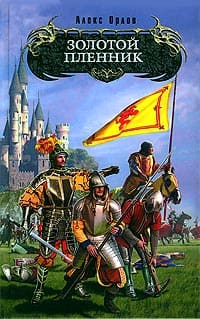 Орлов Алекс
Орлов Алекс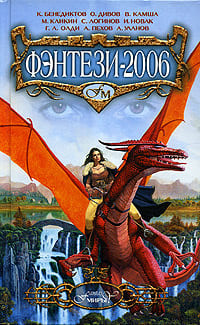 Пехов Алексей
Пехов Алексей