отступали, ездили по селу и факелами штрыкали под каждую стреху и ждали,
пока все сгорит, а кто пробовал гасить свою хату, били из автоматов, и убили
тетку Довганьку и старого Дейнегу. А дед Пакилец ночью облил всю крышу
разболтанной глиной, так оно не горело, и фашисты вытащили его из камыша и
заставили отдирать глину, а потом подожгли крышу и развалили стены. Колхоз
мы не распускали, тайно держали, кто в селе остался, а как наши пришли, то
вспахали и засеяли коровками и уже дали урожай для нашей доблестной Красной
Армии, а нынче уже провели вторую весеннюю посевную после освобождения и
ждем хорошего урожая. Самая же большая моя радость, что ты оказался живой,
теперь как приедешь, то увидишь все, и обо всем тебе расскажу, ждут тебя все
и передают поклоны, а я остаюсь с почтением к тебе, твой отец Андрий
Карналь". Сбоку была приписка: "Возвращайся, дорогой сынок, твой отец Андрий
К.".
безнадежности. Когда шли на фронт, как-то не думалось о возвращении, да и
как могло быть иначе. А потом родной дом, и край, и родная земля отдалялись
и отдалялись, их очертания размывались жестокими водами войны,
заволакивались ее черными дымами, терялись в неизмеримой дали - разве ж
вернешься? Но с фронта каждый должен был вернуться хотя бы мертвым, ибо на
фронте каждый живет надеждами на победу общую и личную над врагом, а
победителям суждена вечная память. Что оставалось для тех, кто попал к
фашистам, в концлагерный мир, где уничтожали не только людей, но и все
воспоминания, где навеки умирала память? Оттуда не возвращались, были
утеряны миром безнадежно и беспросветно, как листья с деревьев, как дожди с
туч, как тающие снега по весне. Так что когда чудом спасенным удавалось
вернуться, то казалось им, что мир не заметил ни их отсутствия, ни
возвращения. Ощущали бесприютность, были от самого возвращения обременены
виною, о сути которой не дано им никогда узнать, еще хорошо, если кто имел
семью, дом, если его ждали неутомимо и упорно. А Карналь ничего не знал:
есть ли село, жив ли отец, можно ли надеяться на возвращение.
собственным глазам. Молоденький лейтенант, такой израненный и беспомощный
еще вчера, сразу встал на ноги, раны его не зажили, а просто исчезли, будто
их и не было никогда, он надоедал каждый день просьбами, чтобы его выписали
из госпиталя, его не пугали ни зной в пустыне, ни безмерные расстояния, ни
неопределенность положения в жизни, в которой он был так немилосердно и
бесповоротно зачеркнут и теперь вряд ли будет внесен когда-либо в ее
почетные реестры.
американско-европейском обмундировании среди раскаленных песков: шерстяной
костюм, толстая шинель, грубые ботинки, большая сумка, набитая бог знает
чем, а на голове пехотная парадная офицерская фуражка - подарок товарища по
палате, старшего лейтенанта из Вологды Васи Порохина. В кармане - проездной
литер до ближайшей от отцовского дома станции (а между Байрам-Али и той
станцией - тысячи километров, десятки пересадок, переполненные поезда, а то
и никаких поездов!), но прежде всего хотел попрощаться с семьей Капитана,
для чего ему нужно было найти где-то в разветвлениях Мургаба конесовхоз,
дойти туда хотя бы даже пешком.
везет и в тяжелейших несчастиях. Разве же это не подтверждалось всей его
жизнью? Не умел хвалиться своим фронтовым опытом, угнетаемый постоянным
напоминанием о нескольких ужасных месяцах концлагерного умирания, но мог бы
вот в этой раскаленной пустыне рассказать, например, о том, как из
водителя-сержанта, который два года возил снаряды на батарею, в один день
стал пехотным командиром, получил орден, а немного погодя - и лейтенантское
звание. Его трехтонка, на которой он возил снаряды, была еще счастливее его.
Бессмертная машина, вечная и неуничтожимая. Он держался возле нее и,
благодаря ей, верил, что доедет на ней и до конца войны, но в один из дней
машина все-таки не выдержала. Случилось это в польских лесах. Пехота,
перебравшись через овраги и буераки, напоролась на фашистского пулеметчика,
который засел на каменной колокольне старинного местечка и не давал нос
высунуть из леса даже мыши. Ясное дело, того сумасшедшего пулеметчика можно
было просто обойти стороной и развивать наступление дальше, но фронтовой
закон велит не оставлять у себя в тылу ни одного врага. Где-то в штабе
решено было выковырять того фашиста из каменного укрытия с помощью
артиллерии, пехота обратилась за помощью к артиллеристам, те ответили, что
стрелять из гаубиц по какой-то там колокольне все равно что из пушки по
воробьям, потом командир стрелкового полка дал артиллеристам целую роту,
чтобы перенести на плечах гаубицу через все буераки и овраги, поставить ее
на опушке и уже тогда бить прямой наводкой по вражеской огневой точке. Рота
на фронте означает далеко не то, что в тылу. Сказать надо: то, что осталось
от того, что когда-то называлось ротой. Было там, может, восемьдесят, а
может, и пятьдесят бойцов, а может, и того меньше. На всех один лейтенант и
три сержанта. Но и этого оказалось достаточно, чтобы поставить гаубицу на
самодельные деревянные носилки и на плечах перетащить до опушки. Карналю
командир батареи приказал подвезти боезапас. "Подвезти" - означало почти то
же самое, что и "рота". Это был именно тот участок земли, где когда-то
ведьмы справляли шабаш. Ни проехать, ни пройти. Но Карналь проехал так, как
мог проехать только он на своей машине. "Там, где пехота не пройдет и
бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, там пролетит стальная
птица". Его трехтонка была словно бы стальной птицей из песни, и Карналь
слышал первые выстрелы, хотел бежать, чтобы позвать артиллеристов за
снарядами, передумал и решил понести им в дар хотя бы один ящик. Пока все
определялось одним словом: "Давай!" Давай на прямую наводку! Давай огонь!
Давай снаряды! Давай, давай, давай! Когда есть приказы, тогда легче. Твое
дело - выполнять. Ответственность за тем, кто приказывает. Но вот ты
забрался в эти ведьмины дебри со своею бессмертной трехтонкой, вокруг
камень, дерево, дороги - ни вперед, ни назад, нигде никого, ты один, и по
тебе внезапно начинают бить фашистские автоматчики. Водительский закон
велит: прорываться! Но тут прорываться было некуда. Бежать назад? А снаряды?
А приказ? Тогда вступает в силу иное: переждать! Карналь выпал из кабины,
залег за камнем и только тогда понял, что стреляют, собственно, и не по нему
и не из-за каждого куста. Просто били разрывными пулями, потому и рвалось
вокруг, шуршало, пугало, вгоняло в панику. Значит, он оказался отрезанным от
своих. Отрезан и окружен, но ведь не один. Не видел никого из своих, зато
знал, что они есть, они тут, что будет с кем отбиваться. Выскакивая из
кабины, успел выхватить свой старенький карабин, на поясе висели две
гранаты-"феньки" - вооружение для целого маленького гарнизона, черт побери!
о его присутствии, их больше интересовала гаубица, которая торчала на опушке
и расковыривала прямой наводкой каменную колокольню, а еще интересовали их,
несомненно, наши пехотинцы, которые понемногу огрызались, правда, до времени
не проявляя особой активности, чтобы не демаскироваться. Но тут к лаю
"шмайсеров" присоединились сердитые серии двух или трех немецких МГ-42,
окаянных пулеметов, которые очередями срезают самые толстые деревья, не то
что человека. Ударили по лесу фашистские минометы, заварилось то, что
называется "кашей", мины хрюкали уже и вокруг Карналя, одна попала в
трехтонку, и машина загорелась. Сержант вне себя бросился тушить огонь, но
упал, сраженный пулей в ногу. Он все-таки поднялся, на раненую ногу ступить
не мог, она стала почему-то мягкой, как столб дыма или нечто в этом роде,
запрыгал к машине на одной ноге и тут увидел, как из буерака карабкаются
прямо на него наши пехотинцы. Бежали беспорядочной кучей, может, пять, а
может, и двадцать человек, бежали панически, это Карналь понял сразу. Его
совсем не интересовало, гонятся ли за ними фашисты по пятам или еще где-то
поджидают, чтобы добить методично и не спеша, он только видел позорное
бегство своих, стал невольным свидетелем унижения, не мог стерпеть этого,
рванул из-за пояса гранаты, потряс ими перед теми, кто карабкался снизу,
закричал:
гранатами, был наверху, пехотинцы внизу. Сила была не за ними, а за ним, и
они стали послушными и покорными, а может, стало им стыдно пред этим
замурзанным сержантом.
теперь мог определить, где больше угрозы: в треске разрывных пуль или в тех
поднятых над яром зеленых ребристых гранатах.
готовьсь!
уже залег и тот, кто не хотел. Фашисты же побоялись сунуться под разрывы,
чем Карналь немедленно воспользовался и повел пехотинцев назад, туда, где
должна была стоять гаубица. Прыгал на одной ноге, помогал себе карабином,
как костылем. Около гаубицы нашел несколько уцелевших артиллеристов,
организовал круговую оборону пушки и так продержался всю ночь до следующего
утра, пока не пришло подкрепление и их не освободили из окружения.
особенной отчетливостью, очутившись под нещадным солнцем пустыни. Кому
рассказать о том, что было когда-то? Да и зачем! И было ли это на самом
деле? Должен был все начинать заново, словно со дня рождения. Вот равнина
перед глазами, нетронутые пески, голое вылинявшее небо, полыхающее солнце,
дикие порывы ветра. Может, тот, кто был в пекле, умер и исчез навсегда, а он
только тень от него, унаследовавшая имя Карналя, его воспоминания, его боль,
но и надежды тоже?
ту бесконечную коллекцию ландшафтов, которую заставила его насобирать война?
Равнины, реки, леса, горы, села и города, свои и чужие, мосты, дома, дворцы,
соборы, блиндажи, окопы и тропинки - и вновь дороги, а надо всем -
незаметная и вездесущая хилая и всемогущая трава. На траву хотелось посадить





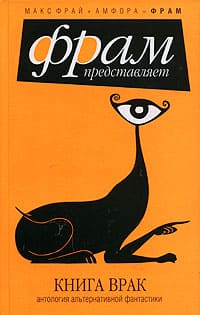
 Орлов Алекс
Орлов Алекс Лукин Евгений
Лукин Евгений Шекли Роберт
Шекли Роберт Свержин Владимир
Свержин Владимир Корнев Павел
Корнев Павел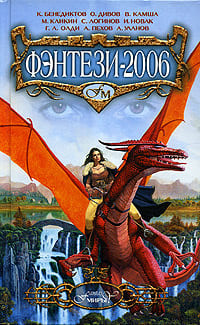 Пехов Алексей
Пехов Алексей