кибернетики. Я это пояснил ей достаточно популярно... Что же касается войны,
то посоветовал ей поискать генералов из тех времен. Воспоминания генералов о
войне - это же прекрасно. Еще лучше - когда вспоминают маршалы... Жуков,
Василевский... Полководцы...
горизонта мысли. Говорил и не ему, и не себе - просто думал вслух:
Столкновение мыслей, сплошная абстракция. Фронты, армии, огромные массы
людей, неизмеримые расстояния, театры военных действий, гигантская шахматная
доска... Но нет приближения к человеку, отсутствует сугубо человеческий
элемент, исчезают судьбы, отрыв от корней, схоластика...
уничижению, старался стать, может, и вовсе незаметным. Он казнился
откровенно и, если бы можно было так сказать, напоказ.
жизнь...
очевидцы могут рассказать благодарным потомкам.
удивления:
времени? Но ведь это же и история, черт побери! Человек без воспоминаний
лишен истории, он остается голым в холодных полях вечности. Каково ваше
мнение о полезности истории, Алексей Кириллович?
неисчерпаемого церемониала всегда в достатке было почтительности. Он склонил
голову набок, отдавая дань уважения прошлому своего шефа, прошлому, может, и
не очень героическому, но тяжелому.
Карналь.
смог бы он, помощник академика Карналя?
действительно смог бы, когда выпадет минута...
четырнадцатью и шестнадцатью...
Кажется, ко мне должны приехать с Полтавщины. Но мы с вами обязаны найти
время. С прессой нужно жить мирно...
кошмар?
разделенные тяжелой, как смерть, глиной, перемешанной с камнями, одни
снаружи, другие во внутренностях горы, но умирают и те и эти - так все это и
поныне стоит в его памяти. Еще видит он беспорядочные кучи кирпича
разбомбленных станционных строений, опрокинутые вагоны, паровозы с
растерзанными внутренностями котлов, глубокие воронки в земле, обозначенные
пучками соломы места падения неразорвавшихся бомб, равнодушный камень замка
по ту сторону железнодорожного полотна.
никто не поверит. Тот день принадлежал войне, хотя был одновременно и вне
войны, а назвать его следовало бы днем, выброшенным из войны.
толпу у подножья глиняной, поросшей темным редколесьем горы, небесные воды,
едва дотрагиваясь до того, что было внизу, мгновенно замерзали, ледяной
панцирь сковывал груды глины, тяжелые неуклюжие тачки, кирки и лопаты,
людей, не делая исключения ни для заключенных, ни для охраны, у которой
оружие под тонкой коркой льда сверкало, как стеклянное. Но оно не было
стеклянным - в этом мгновенно убеждался каждый, кто имел неосторожность
перешагнуть незримую линию постов. Без предупреждения раздавался выстрел,
человек падал и так лежал до самого вечера для острастки живых. За спиной у
заключенных была большая станция, разрушенная, разбомбленная американскими
штурмовиками, по ту сторону долины, по которой пролегали рельсы, высился
серый, в гнилых пятнах древности замок, город обтекал мрачное здание замка
причудливыми кровлями своих домов, а со стороны глиняной горы, которую
ковыряли измученные люди, лежало предместье, одна длинная улица, она
начиналась сразу же от самых железнодорожных путей, начиналась городскими
домиками, постепенно переходила в улицу сельскую и упиралась где-то далеко в
темный лес.
налет на станцию и город, и лил вот уже несколько дней. Гражданское
население было согнано в городское бомбоубежище, вырытое в недрах глиняной
горы за станцией. Американцы сыпали бомбами щедро и вслепую, бомбы рвались
даже в далеком лесу. Много их упало на глиняную гору, и оба выхода из
бомбоубежища оказались заваленными. Чуть ли не все жители городка оказались
похороненными в глиняной горе, они сидели там в сплошной темноте, может,
задыхались без воздуха, может, умирали от голода, может, утопали в холодных
подземных водах, вызванных взрывами бомб. Спасать было некому. Шел февраль
сорок пятого года, советские армии достигли Одера, даже слепые видели конец
войны. Германия корчилась в последних судорогах, тотальная мобилизация
повымела последних калек, фронты глотали все, в тылу оставались женщины,
дети, безнадежные калеки и над ними - безликая жестокая сила всех
гауляйтеров, крайсляйтеров, охранных войск, тайных служб палачей, убийц,
доносчиков и просто негодяев по профессии и по призванию.
в которой очутился весь немецкий народ. Диктаторы всегда ставят народы в
безысходность, а потом требуют жертв и конечно же рабской покорности. Гибель
за неведомые, но непременно высокие идеалы относится к наивысшим
добродетелям, и вот те, кто сидел где-то во мраке подземелья, имели
прекрасную возможность выказать преданность и покорность судьбе. Спасать их
было некому. К глиняной горе пригнали несколько десятков польских пленных,
истощенных до предела итальянских солдат, недавних союзников, а теперь
врагов, брошена была и каторжная офицерская команда советских пленных.
Они ненавидели стражу, всех тех безымянных, списанных с фронта из-за ранений
эсэсманов, которых заключенные щедро наделяли язвительными прозвищами:
Лунатик, Гитлер, Боксер, Пес, Паралитик. Мстительное чувство ненависти
невольно распространялось и на тех, кто сидел в недрах горы: ну, гады,
попались, вот бы к вам и всех тех, кто на воле... Не думалось, что там дети
и женщины, - "замурованные" для чуть живых узников были прежде всего
врагами, бестелесной и безликой массой, достойной лишь проклятий и чувства
мести. Ибо разве же не они повторяли стишок из хрестоматии: "Возьмем на себя
все невзгоды войны: ночь, и огонь, и нужду, и жестокую смерть, когда велит
судьба..." И разве не они требовали свободы и хлеба лишь для себя? Почему
свобода только для них и хлеб только для них? Где другие? И можно ли
когда-нибудь накормить ненасытных, которые думают о хлебе, забыв о чистой
совести?
себя восклицаниями "Лаборандо! Престо!", но шевелились довольно вяло - не
было сил. Команда, в которой находился Карналь, саботировала почти
откровенно. За ними давно укрепилась слава саботажников, не боялись уже
ничего, каждый уже заглянул за край жизни, открылись глазам все глубины
небытия, смерть ходила возле на расстоянии вытянутой руки, жалкая
непрочность исчерпанного до предела тела, позорная зависимость от слепого
случая, от прихоти вооруженного стража - все это научило их полагаться лишь
на силу духа, на собственную твердость и непоколебимость. Такими были всюду,
этим держались до самой смерти и даже после смерти.
Собранные из многих концлагерей, безнадежные штрафники, случайно уцелевшие,
уже наперед внесенные в реестры смерти, эти люди поражали даже эсэсовцев,
перекалеченных на Восточном фронте и приставленных к советским пленным,
чтобы могли удовлетворить свою жажду мести, ибо для таких мстить никогда не
поздно. Невозможно было себе представить более сдруженных людей, чем вся эта
штрафная команда, но она еще делилась на маленькие ячейки, в которых люди
сходились совсем тесно, объединялись неожиданными симпатиями, восхищением,
уважением.
ближайшими друзьями были Профессор и Капитан. Собственно, Профессор Георгий
Игнатьевич в мирной жизни был доцентом, преподавал в Одесском университете
математику, Капитан Гайли действительно имел такое звание в армии, до войны
же работал главным зоотехником конезавода в Туркмении. Профессор - это
воплощение ума, Капитан - красоты, ловкости маленького мускулистого тела,
неукротимой жажды воли, пылкого темперамента сына пустыни, а что мог
добавить к их достоинствам Карналь? Был Малыш - и этим сказано все. О нем
должны были заботиться, опекать его, помогать ему, защищать его, учить. На
фронт пришел сразу из десятилетки, да и то недоросший, так как в школе он



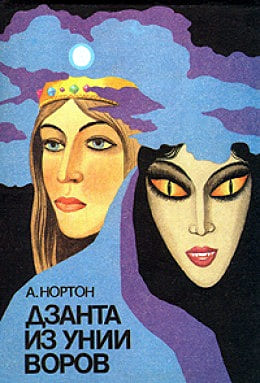


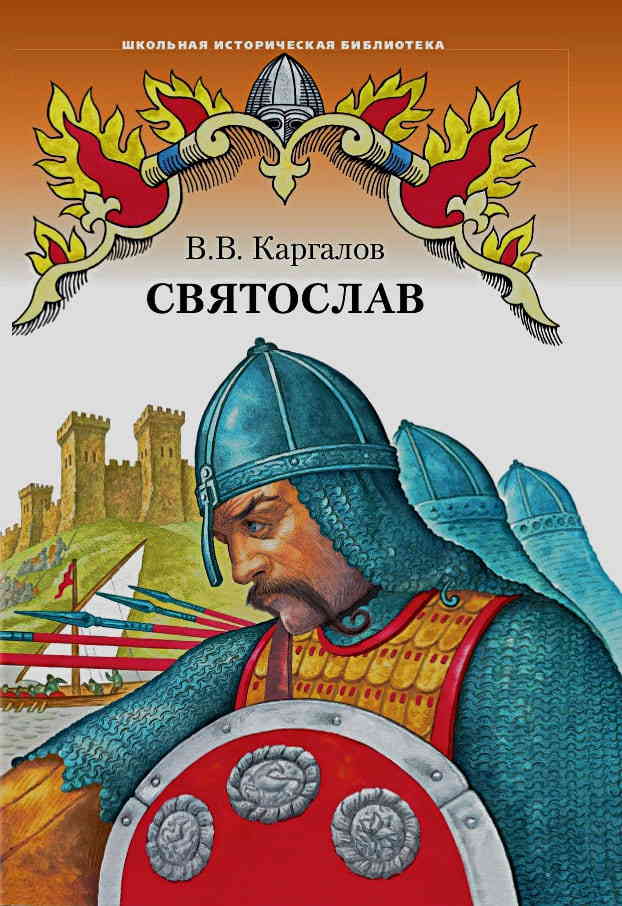 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Акунин Борис
Акунин Борис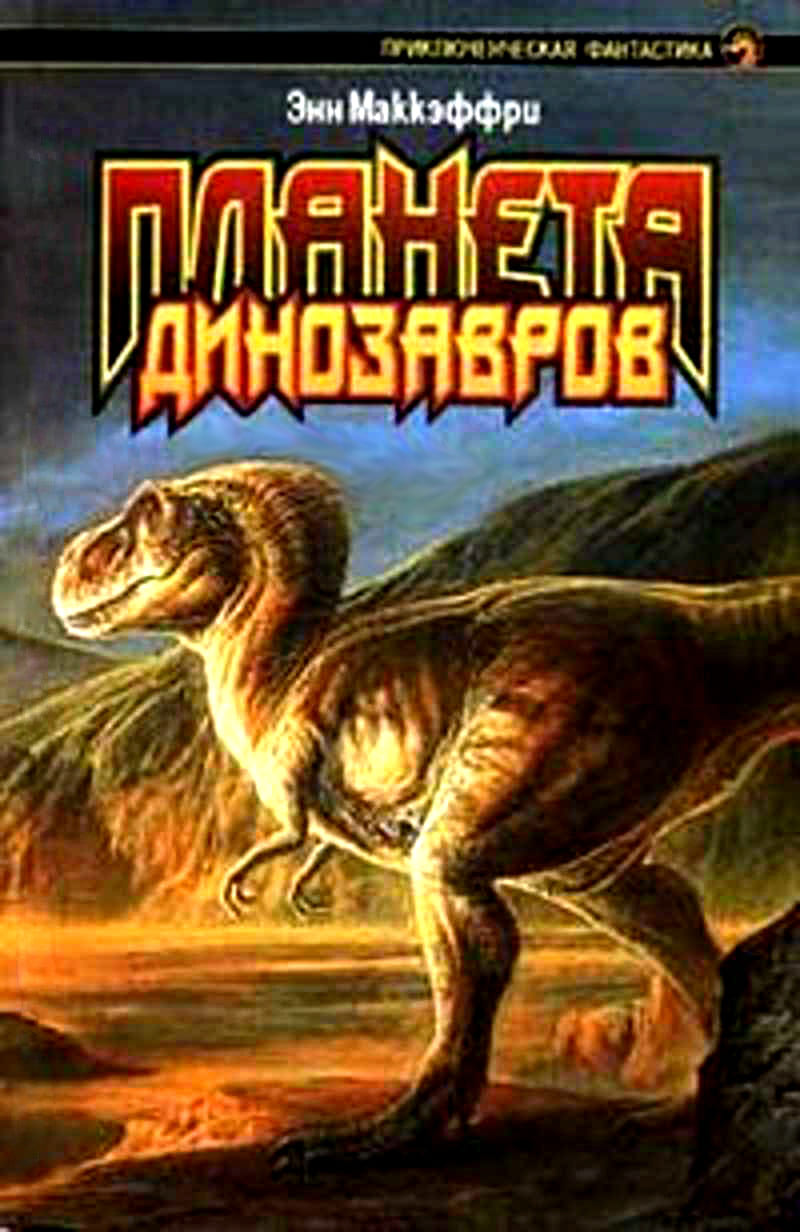 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн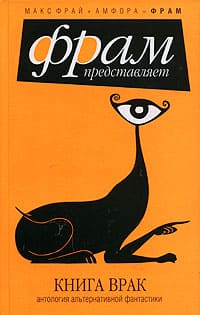 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Доставалов Александр
Доставалов Александр Браун Дэн
Браун Дэн