она была или только привиделась, но имя навсегда осталось в его памяти.
далекой фронтовой Людмиле-Людмилке, а он как-то не собрался с духом
рассказать, все откладывал и откладывал, никогда не думая, что имена Айгюль
и Людмилки из далекой военной зимы трагически сольются для него когда-то - и
он будет вспоминать их вместе, имея перед глазами дочь, будет вспоминать при
встречах каждого нового года в бесконечном разбеге вечной жизни.
памяти, воспоминания так же умирают, как и прожитое время, но в этом
умирании есть высокая целесообразность, ибо только таким образом уберегается
от забвения то, что должно сопровождать нас на протяжении всей жизни.
Случаи, напоминания, поступки, события стоят на горизонтах памяти, как
неистребимые путеводители твоего прошлого, и еще неизвестно, не они ли
помогают тебе в ежедневных трудах твоих, не с них ли начинается для нас
наука высочайших восторгов и мучительнейшей боли, а если так, то разве же мы
не спасаемся той радостью и той болью от очерствения и равнодушия и не
становимся чище сердцем между двумя берегами бытия?
даже представить себе ту глубину времени, в которой видим их сегодня. Гремит
беспредельный фронт, исполинская советская земля как бы сузилась до той
полоски огня, на которой пишется История Грядущего, фронт то сжимается, как
стальная пружина, то разливается, как вешние воды, у него есть часы
смертельного напряжения и волны расслабления, короткие, неуловимые, но люди
с жадностью хватаются за те минуты, вкладывают в них столько чаяний.
осколками трехтонке подвозил на огневую снаряды, метался между передовой и
складами боеснабжения, выработал в себе отчаяние и умение проскакивать
машиной между двумя разрывами снарядов, гонял ночью вслепую, без света, по
болотам и снежным сугробам, попадал под бомбы, под пулеметный обстрел, били
по нему разрывными и зажигательными пулями, били фашистские автоматчики,
ловили на прицел вражеские снайперы, расстреливали его бессмертную машину
прямой наводкой "тигры" и "пантеры". А машина жила, двигалась, расшатанная
во всех своих железных суставах, катилась дальше и дальше по фронтовым
дорогам, вздыхала, кашляла, захлебывалась старым мотором, что-то в ней
скрипело, стонало, ойкало, иногда от близкого разрыва она тоже как бы
взрывалась, окутывалась дымом и огнем, но снова рождалась и мчалась еще
неистовее со своим молоденьким водителем, дерзким, в замасленном полушубке,
с закопченным лицом.
самом пекле. Среди стонов и смертей. Маленькая, нежная, тоненький голосок,
чуть ли не детские ручки. Полушубок на Девушке был безупречно белый, чистый,
будто только что с интендантского склада, большая сумка с красным крестом
так же поражала своей чистотой, словно бы не знала ужасающей грязи войны, не
была среди слез и крови.
и ее могут убить, не верила в собственную смерть, не было времени на мысли о
смерти. Маленькими ручками умело делала перевязки легкораненым, нетронуто
чистая, ловко передвигалась по ходам сообщений, переползала самые открытые
участки, плакала над тяжелоранеными, которых не могла вынести с поля боя,
плакала над собственным бессилием, плакала и всякий раз побеждала смерть.
могла представить себя без страшной своей спасательной работы, а война уже
не могла обойтись без Девушки.
трехтонкой водитель-батареец, впервые увидев Девушку, протарахтел и продымил
мимо нее, как мимо светлого видения. Могло быть такое на самом деле? Да еще
здесь, на войне!
от друга, но на этот раз Сержант набрался нахальства и махнул Девушке своей
замасленной рукой. Девушка просияла улыбкой. Кому? И в самом ли деле была
улыбка? Под зимними тучами, над мрачной землей диво девичьей улыбки - такое
не могло принадлежать только ему одному. Если бы еще он был генерал,
прославленный полководец, герой, а то просто Сержант. Даже автомата не
имеет, а лишь старенький, затасканный карабин.
одолевать глубокие снега, побеждать собственную неповоротливость и
неуклюжесть от тяжелой одежды. А Сержанту все равно - зимой или летом, по
дорогам или по бездорожью - возить снаряды на батарею. Все вокруг было
забито снегами, сковано морозом, но машина Сержанта неистово металась между
огневой позицией и складами боеснабжения, весело тарахтела возле позиций
пехоты, прогромыхивала мотором в открытом поле и неслышно ныряла в
затаенность лесов, забитых интендантскими службами.
остановить машину. Стекла в кабине были выбиты бог знает когда, ни протирать
их, ни опускать Сержанту не приходилось, смотрел на Девушку свободно,
чуточку дерзко, но молча, а она узнала его сразу и сказала с ласковой
завистью:
"Между прочим, я мог бы прокатить вас в лес", но своевременно спохватился.
Кто он такой, чтобы с ним могла поехать столь чистая и святая Девушка? -
Машиной в лесу даже труднее, - сказал немного погодя. - В поле красота. Ну,
бывает обстрел, зато видишь, куда выскочить и где проскочить. Большое дело,
когда все видно.
и не поймешь: и впрямь хотела поехать с ним или только шутит.
вежливость. А они, кроме всего, даже не знали имени друг друга, знали
только, что молоды, молоды, молоды...
но...
лес можно было бы считать его новогодним подарком ей, но сдержался: почему
она должна принимать уже и подарки от какого-то незнакомого, замасленного
Сержанта-батарейца?
неопределенностью, не насмехалась над его нерешительностью. Немного
подумала, покосилась на Сержанта и неожиданно сказала:
его черной хлебной коркой, умывался и расчесывал свой торчащий чуб, который
все равно бы никто не увидел под старой, пробитой в трех местах осколками
шапкой. Всю эту подготовку затмило утро, в серебряной изморози, в тихом
инее, в такой неземной красоте, что сжалось бы от восторга сердце даже у
самого черствого человека. Сержант глянул на седое мягкое небо, на
серебряное сияние деревьев, украшенных миллиардами иголочек инея, представил
себе, как влетит на своей трехтонке в это неземное царство, молча распахнет
дверцу перед Девушкой: вот красота, вот диво, вот чистота и вечность!
пехоты, притормозил в балочке, возле блиндажа, где встретил Девушку, мог бы
просигналить, но не отваживался, только открыл дверцу в ожидании своей
пассажирки. Замахнулся на недоступное и неприступное, в дерзости своей
доходил до невероятного, ибо кто он такой, если подумать? Не генерал, не
герой, без орденов, с единственной медалью, спрятанной так, что и не увидит
никто, как ни расстегивай полушубок, как ни распахивай.
легкое, прыгнуло на сиденье его машины, сверкнуло ему темными очами. Отдал
бы жизнь за один лишь взблеск этих очей! Рванул с места, разогнал машину,
чтобы проскочить откос, простреливаемый фашистской батареей, изрытый черными
воронками, гнал между теми воронками, между взрывами, сотрясавшими целый
свет, выбирал дорогу так, чтобы машина попадала на чистый снег, не
загрязненный взрывами, не почерневший от тяжелых извержений земли. Всегда
пролетал по этому склону, будто гонимый дьяволами, пел и смеялся от избытка
умения и счастья, обманывая фашистских артиллеристов, а сегодня впервые
почувствовал настоящий страх - откос никак не кончался, машина барахталась в
самом низу, неуклюжая и беспомощная. Сержант тихонько проклинал двигатель,
колеса, горючее и господа бога, Девушка же совсем не проникалась его
тревогой, умостилась на сиденье довольно удобно, еще раз блеснула на
Сержанта черными очами, сказала:
простреливаемом и изуродованном фашистскими снарядами склоне. Вот так
кончается то, что не успело и начаться, вот так кончается мир. Он не мог
допустить конца, потому что ему верили и доверились, он бросал свою машину
по сумасшедшей шахматной доске смерти, между черными и белыми квадратами,
между черной, извергнутой из недр землей и белым снегом. Где-то в
недостижимой высоте виднелся верх склона, упирался в седое избавительное
небо, прыгнуть бы туда прямо снизу, ворваться с разгона, одним махом, чтобы
покончить с этим неуклюжим барахтаньем, уйти от смерти и конца.


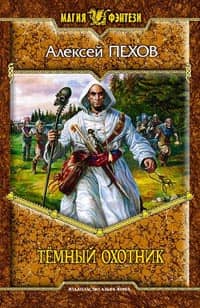

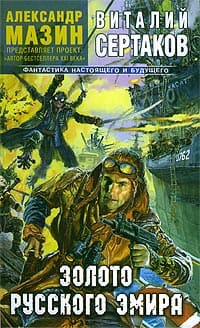
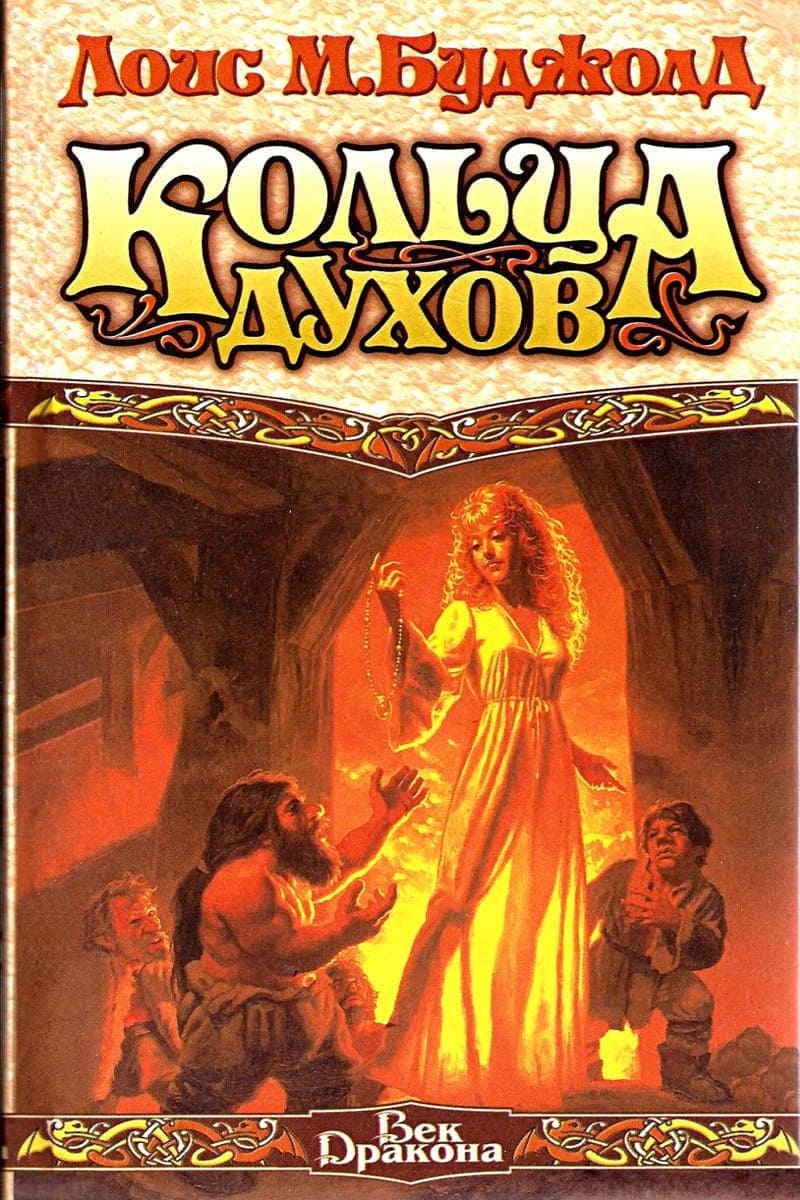
 Мороз Александра
Мороз Александра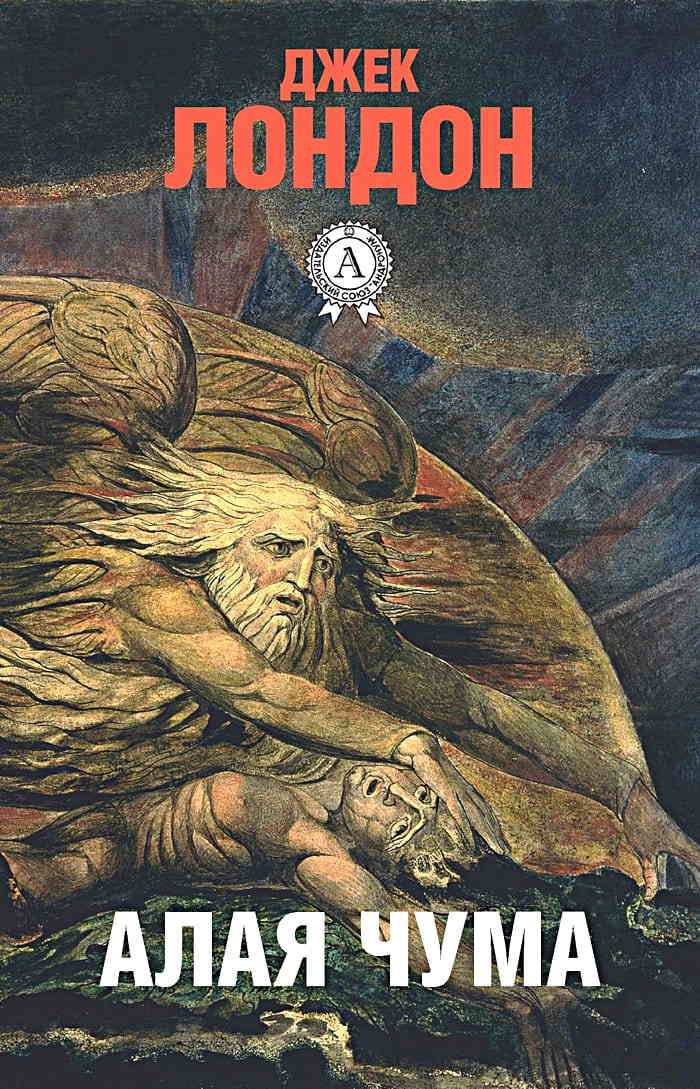 Лондон Джек
Лондон Джек Махров Алексей
Махров Алексей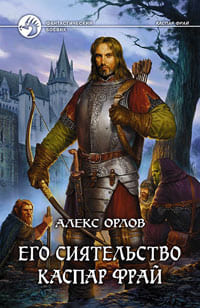 Орлов Алекс
Орлов Алекс Акунин Борис
Акунин Борис Афанасьев Роман
Афанасьев Роман