Куреневку, на Минское шоссе. Шоссе оказалось узким, даже сердце заходилось,
и извилистым, как кошмарный сон. Была та неопределенная пора года, когда
зима отступила, а весна еще не пришла. Все мертвое, голое, бесцветное,
безнадежное. Самое страшное, что никто ничего не говорил. Даже Пронченко не
решался произнести ни слова. Они спешили, и то, к чему они так спешили, было
за пределами любых слов...
приглушенные рапорты... Разбитый гигантский "КрАЗ". По другую сторону узкого
шоссе смятый, как тонкая бумага, кузов новой "Волги". Смятый и мертво
брошенный в ров.
заметить, что то был "Москвич". Ни номеров, ничего не успел. "Волга"
обгоняла "Москвича", а он гнал что было духу, не уступал. Сколько так летели
- десять, двадцать километров? Если бы из Киева, можно было бы найти
"Москвича". Но ехали в Киев. Скорость на таком шоссе - сто двадцать. Один
хочет перегнать, другой не хочет уступить. Никогда не следует забывать
первое золотое правило водителей: "За рулем другой машины всегда больший
идиот, чем ты". На этом извиве дороги перед "Волгой" очутился встречный
"КрАЗ". "Москвич" проскочил и удрал...
Айгюль была любимая цветная фотография, подаренная ей Николаем Козловским.
Бездонно-глубокая чернота, прочерченная стройной женской ногой, ногой
Айгюль, с ее нескончаемо плавными прекрасными линиями, другая нога, согнутая
в колене, как бы обнимает выпрямленную, а дальше, над ними, будто розовая
корона, светится ладонь Айгюль с растопыренными пальцами. Айгюль назвала эту
фотографию "Кораллы"...
своего голоса, и ни за что бы не мог сказать, зачем ему те страшные
фотографии, сделанные умелым, холодным экспертом...
ощутимой болью. Тоже Айгюль... Ее прекрасные ноги... Но...
меня, Петр Андреевич? Все возможное...
дурень. Как он очутился в машине? Куда они ездили? И зачем? И как могли
гнать на таком шоссе? А где у нас шоссе? И не бессмыслица ли выпускать
быстроходные машины для таких допотопных дорог! Курсы по оказанию первой
медицинской помощи... А надо строить шоссе... А пока закон об ограничении
скорости... Не знаки, а закон, принятый Верховным Советом! Мысли на
ступеньках... Мысли на ступеньках... "В полдневный зной в долине Дагестана с
свинцом в груди лежал недвижим я..."
вмещать в себя все боли, чужие несчастья делать своими? Как выдерживает? Он
обнял Пронченко и заплакал. Верико Нодаровна тоже плакала, но пыталась
утешать Карналя:
Мертвая земля, сонные корни деревьев, беспощадная бесцветность... Серый, в
клеточку Кучмиенко. "Петр Андреевич, Петр Андреевич, крепись! У меня что?
Полины уже не вернешь. А ты надейся. Советская медицина самая сильная в
мире!.."
зацветет. Убогая декорация последнего акта. Желтые машины среди мертвого
пейзажа, плоский горизонт, небо без солнца, свет, засыпанный мертвой пылью.
Айгюль бросала ему свои цветы. Осыпала его цветами. Теперь пыль умирания -
все, что осталось от цветов... "И человек по землям бродит, бродит, чтоб
снова вечность под землей лежать..."
которого навеки застыла боль многих людей... Ничего не обещал. Главный врач
никогда не обещает. Но надеяться надо... Все молчало. Он любил молчание ее
очей. Очи-зеркала, очи-поцелуи, очи, мягкие, как шелк... Гладила взглядом,
нежно гладила, мягко целовала, вспыхивал в черной бездонности ее глаз свет
только для него, всегда только для него, никогда не угасал. Теперь глаза
подернулись мутью...
уже мертвые... И уста, живые только в своих линиях, но обесцвеченные и в
каких-то ненастоящих подергиваниях-судорогах... Одесская телеграмма: "Люблю.
Женимся. Айгюль". На всю жизнь безмолвная музыка этих слов. А теперь
безмолвное умирание. Что она думала, умирая? Какое слово, какой стон, какая
боль затрагивала край ее сознания? Непостижимость, бесконечность и
неисчерпаемость огромных пустынь Азии навсегда остались в ней. Может, в
пустыне жила бы вечно? А тут ей не хватило места, было тесно. Рано или
поздно это должно было случиться. Неприспособленность свою пыталась одолеть
летучестью, прожить, не углубляясь, едва прикасаясь к поверхности мира,
жизнь на пуантах, в сердце музыки...
граната, она обсасывала его и возвращала ему. Он - взрослый, она - дитя.
Называл ее "Роня". Почему - не знали оба.
"Найдем". - "Пожалуйста"...
первозданное буйство жизни в нем, будто лежит перед тобой разрезанная
пополам Земля! Как можно умирать на этом свете, где столько красоты и
неосуществленности, которая должна стать действительностью! Карналь
прикладывал к устам красные зернышки граната. Непослушные губы
бессознательными движениями выталкивали зернышки назад, и он подбирал их;
казалось, все возвращается, все как было, но зернышки возвращались
нетронутыми. Такие же кроваво-живые. Уста выталкивали их, возвращали,
вспоминая былое, вспоминая незабываемое. Где-то еще жил краешек памяти.
Тонюсенький сегментик. И это все, что было между ними. Угасало, как луна в
ночь затмения. Золотая ниточка среди мрака вечности. Тоньше, тоньше... Она
угасала. Навеки...
делай меня мудрым, дай мне мудрость... Так и не сумел он должным образом
оценить ее порыв - из пустыни к нему. "Люблю. Женимся. Айгюль".
больным, потому что никогда она для них не унимается и не кончается...
Айгюль, вспоминал ее только в недолгие часы одинокого отдыха, лишь теперь
постиг, что я про живую последние десять или пятнадцать лет, в сущности, не
имел возможности думать, поскольку все его время съедала работа,
размышления, нечеловеческое напряжение ума, все силы - на раскручивание
исполинского маховика прогресса, на разгон, размах, на то, чтобы кого-то
догнать, на опережение. Вперед, вперед, выше, к непостижимости и
неосуществимости. Для Айгюль время оставалось в самолетах, в чужих отелях,
ей не принадлежали даже бессонные ночи, он напоминал ту легендарную птицу из
древности, которая вила себе гнездо на волнах моря: удержаться среди стихий,
подчинить себе стихии, заставить каждую волну твоей жизни дать максимум
того, что она может дать, научиться управлять собственной жизнью, а не
позволять, чтобы жизнь управляла тобой. Никогда не останавливаться, никакого
отдыха. Выше, выше!
девушка-журналистка была первой. А может, только показалось? Может,
напомнила облик Айгюль: высокая шея, дивная походка, гибкая фигура. Могла бы
привлечь взгляд его усталых глаз, можно бы даже влюбиться (если позволено
применить это высокое слово к мужчине его возраста и его утрат), но
нестерпимая боль памяти уже никогда не исчезнет, так же, как не дано
вторично родиться.
отрезать от мира, прекратить все контакты, поставить возле него тех
"параметров", чтобы они брали все ценное, что может давать его мозг, и
пересылали по назначению. Ибо разве кибернетик в действительности не
пребывает, так сказать, в духовном отъединении от реального мира с его
хаотичностью, разве не вынужден всякий раз возвращаться в его
неупорядоченность, которая не имеет ничего общего с деятельностью
кибернетика, с его мечтами и амбициями? Это словно поражения после побед. Не
успеваешь насладиться победами своего ума, и вновь поражения ежедневной
жизни отбрасывают тебя на исходные позиции, радуешься и гордишься своими
машинами, которые управляют целыми заводами, приводят в движение сложные
механизмы, летают в космосе, достигают Луны, дают жизнь "Луноходу",
наполняют светлое пространство вычислительных центров живым шелестом,
похожим на шелест весеннего дождя в молодой листве, но миг беспределен, и
жизнь жадна и ненасытна, все взывает: "Мало! Мало!" - и сам Карналь видел,
как мало сделано, и знал, что надо жить дальше. "Все обновляется, меняется и
рвется... И зеленями из земли опять встает".
мир!





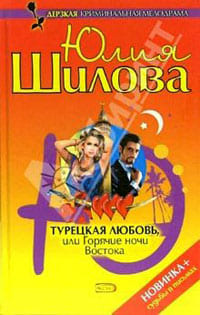
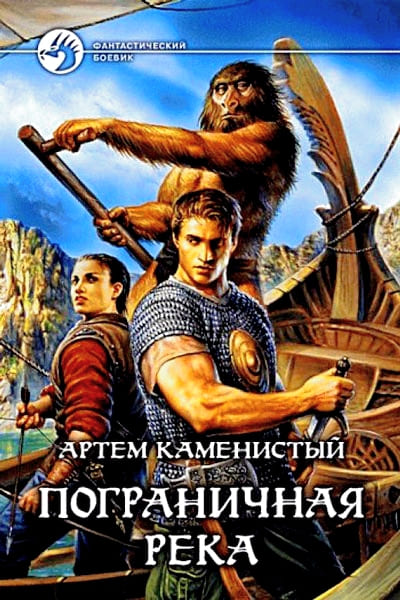 Каменистый Артем
Каменистый Артем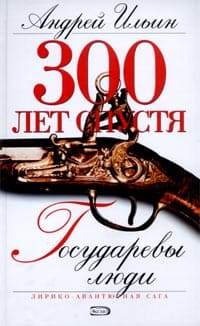 Ильин Андрей
Ильин Андрей Корнев Павел
Корнев Павел Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Самойлова Елена
Самойлова Елена