целая вечность, хотя сам день был тоже черный, как вечер, дождь лил и лил,
мороз схватывал дождевые потоки, мертво шуршали обледеневшие бумажные мешки
на пленных, тускло блестело все вокруг, омертвевшее, холодное, скользкое,
омерзительное.
вагонами, не сговариваясь, держались поближе к тому участку путей, в который
упиралась улица пригородного поселка, иногда поглядывали туда, видели тихие
белые домики, покрытые тонким слоем льда так же, как и все вокруг, но там
был еще стеклянный блеск оконных стекол, там пробивался откуда-то пахучий
дым из труб, оттуда долетала до них чужая жизнь с ее теплом, уютом, всем
тем, о чем они давно забыли, а если и вспоминали иногда, то уже не верили,
что изведают ее когда-нибудь. "Как трава - жизнь людей, как твое дыхание, о
господи!" Они не хотели быть травой. Пока в тебе бьется мысль, ты человек -
и таким пребудь вовеки! Так учил их Профессор. Повторял каждый день -
неутомимо и угрожающе. Малыш поклялся в душе, что, если останется в живых,
вынесет из этого потустороннего мира величайшее уважение и любовь к мысли,
когда же будет умирать, то и тогда пусть взовьется его мысль! Крылья еще
малы, но все равно. Его поражала в самое сердце равнодушная жестокость
войны. Война не выбирала. Наносила удары с завязанными глазами. Гибли
лучшие, умнейшие, тут не было разделения на обыкновенных и исключительных,
имело значение лишь то, кто живой, а кто мертвый, кому приходилось умирать.
Малышу хотелось жить, хотелось уцелеть, но если бы надо было умереть за
Профессора, он бы с радостью согласился, потому что в Профессоре спасал бы
от смерти также и собственную мысль.
Человек не всегда может обойтись без помощи. Иногда нужна даже и не помощь,
а толчок, случай, зацепка. Следует ли обвинять тех, кто ждет такого случая,
особенно когда люди лишены всего, кроме собственной воли и мысли? Малыш хоть
и был моложе своих товарищей, превосходил их своим фронтовым опытом.
Профессор любил повторять слова Паскаля: "Природа является бесконечно
поражающим шаром, центр которого везде, а окружность - нигде". Профессор
много знал, за ним стояли целые века человеческой культуры, зато Малыш
чувствовал в себе право трактовать ту культуру так или иначе. Паскалевский
шар был для него прежде всего не признаком бесконечности мира, а указанием
на то, что каждый всегда так или иначе оказывается в данный момент в центре
той беспредельной вселенной, но только тогда, когда этот каждый - боец и
сумеет доказать право на пребывание в центре. Три года на фронте, три года в
беспрерывных боях, три года жестокости, смертей, героизма научили Карналя,
что у бойца должна быть цель не только внешняя, но также и внутренняя. Для
ее определения употребляемо слово "осознанная", но для Карналя в том слове
было что-то оскорбительное. Ибо если только осознанная, то не твоя, чужая.
Осознавать - значит быть только свидетелем событий, поступков, подвигов,
истории, а сражение с фашизмом требовало от каждого хотя бы на краткое
мгновение оказаться в самом центре мира, взять на себя все его надежды и
трагедии, быть не только свидетелем, а бойцом. И когда Малыш мысленно давал
себе слово умереть в случае необходимости за Профессора, это были не пустые
слова, а убеждение, что иначе поступить не может и не смеет. Он видел
слишком много смертей, чтобы не знать, что со смертью еще не все кончается
для человека. Боец умирает, но победа уже летит ему навстречу, она живет,
приближается. Такая смерть - не жертва, она неминуемо имеет свое
продолжение, свое следствие, растягивается во времени, хотя она и короче,
чем жизнь, зато неизмеримо наполненнее. Тут нет выбора между чужой и своей
смертью, есть твердая вера в высокое назначение бойца на земле, в умение
сконденсировать в миг собственной смерти, может, и не одну жизнь, а целые
тысячи их.
воздушной тревоги. Прилетели, когда их никто уже не ждал. Темнело, часовые
зашевелились в своих неуклюжих длинных плащах, чтобы собирать пленных,
пересчитывать, точно скот, и бегом гнать на ночевку, как вдруг засвистело,
взорвалось, занялось красным, смерть ударила отовсюду, спасения не было,
падай, где стоишь, бормочи в душе мольбу о спасении, о счастливом случае,
надейся, что переждешь, уцелеешь, выкарабкаешься и на этот раз. Штурмовики
шли двумя волнами, одни сбросили бомбы, другие ударили из скорострельных
пушек и пулеметов. Не знаешь, что ужаснее - разодранное огнем черное небо
или дикое рысканье пуль по земле. Война выступала перед ними всегда только с
завязанными глазами, смерть не выбирала, свой или чужой, не было для нее
лучших и худших, врагов и друзей, для живых она всегда страшна, но еще
страшнее бессильное ожидание смерти.
вагонов, ежась от звяканья пуль, ударявших о металл, казалось, прямо перед
их лицами, ползли куда-то в сторону, еще сами не сознавая, что будет дальше,
не знали, почему не залегли, как другие. Ближе и ближе к краю путей, к той
улочке, в конце которой темнел спасительный лес. Сигналы тревоги отчаянно
рыдали над ними, американские штурмовики добивали беззащитную станцию,
гремело, клокотало, пылало сзади. Если мир имел форму шара, то непременно
шара огненного, в полыхании и неодолимом запахе огня, а центр мира всегда
там, где есть непокоренный дух и жажда воли.
поддерживая его под руки, помогли перепрыгнуть последние рельсы, и все трое
упали, хоронясь не так от пуль и осколков, как от глаз постовых. Ждали
окриков, ждали, может, и выстрелов.
загремела под тремя парами деревянных колодок. Пустая, темная улица обещала
угрозы не только сзади, но со всех сторон. Зато впереди было обещание воли.
Добежать до леса, спрятаться, затеряться между темными деревьями и убегать,
убегать... Судьба тех, кто безоружным поставлен против вооруженных врагов.
Убежать, чтобы вернуться... Времени оставалось в обрез, война могла
закончиться в любой день, час, гарантий на возвращение не имел сегодня уже
никто, но те, позади, все же боятся возвращений, поэтому непременно станут
преследовать.
Странно, что беглецы смогли преодолеть чуть ли не половину длинной улицы - и
их никто еще не остановил. Ведь их слышали в домах по обе стороны улицы.
Потом услышали и постовые. Услышал фельдфебель с серебряным черепом на
высокой тулье фуражки, услышал и Паралитик, грохот колодок отозвался в ушах
эсэсовцев потому, что штурмовики внезапно исчезли, вдогонку им полетели
сигналы отбоя воздушной тревоги и на мгновение воцарилась тишина. Станция
позади ожила, то, что уцелело, торопливо спасалось, убегало, как и эти трое,
с той разницей, что там все действовали по законам орднунга, а эти нагло
пытались взломать то, что не дано сломать.
прибойные волны грохота порожняка, лязг буферов. Обычно эти звуки приносят
надежду перемен, но не теперь и не для тех, кто, едва не падая от усталости
на холодные камни, бежал по улочке, наполняя ее громыханием своих деревянных
колодок, хриплым дыханием.
налета, да и не было куда прятаться, так как вторично люди не полезли бы в
бомбоубежище, в котором чуть не нашли свою смерть.
не серые, прижатые друг к другу стандартные домики, а целые усадьбы с
высокими и просторными хозяйственными строениями, с таинственными закутками,
обещавшими и отдых, и приют, и укрытие. Капитан рвался вперед, ощущал
свободу, мог дотронуться до нее рукой, Малыш не отставал от него, но силы
Профессора были уже настолько исчерпаны, что он бежать не мог. Среди них он
был самым опытным по части побегов, уже пытался это делать много раз и,
точно определив появление погони, молча свернул к ближайшему дому, ведя за
собой товарищей. Они заскочили в крестьянский двор, бросились к высоким
сараям, если бы могли, проникли бы туда неслышно, проскользнули бы тенями,
но проклятые колодки загремели во дворе еще громче, и тут навстречу беглецам
вышла невысокая тонкая женщина, пошла прямо на них. Они узнали ее еще
издали, а ей пришлось подойти почти вплотную, чтобы узнать их.
не было ей до них никакого дела, да они оба и не ждали от нее внимания, не
останавливаясь, побежали дальше.
- Ведет, так иди.
и не мечтали, а Профессор с Малышом быстро нашли сарай с сеном, взобрались
наверх по высокой лестнице, зарылись в сухое и пахучее сено подальше друг от
друга, замерли, слушая улицу.
визгливый, тараторящий, другой - хриплый и сдержанный. Кричали что-то
неразборчиво, привлекали к себе внимание, поднимали переполох, будоражили
население, наверное, путались в длинных полах своих плащей и спотыкались,
проклинали, грязно ругались. Уже подбегали, были совсем рядом. Может,
пробегут дальше, может, никто ничего не видел, не знает, не подскажет,
может, повезет, может?..
послушный, испуганный.
Кристе. Слова не могли ей принадлежать, но голос не оставлял сомнений.
возьмите всех.





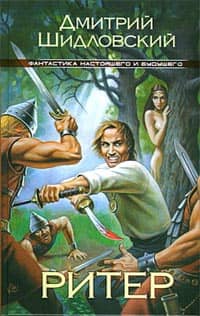
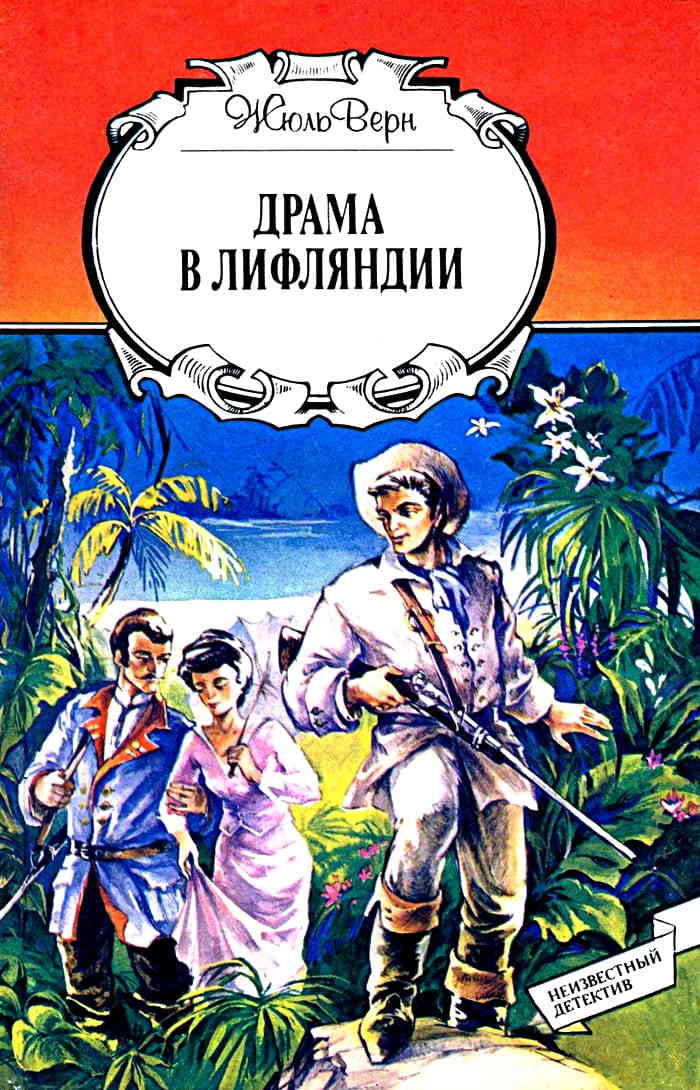 Жюль Верн
Жюль Верн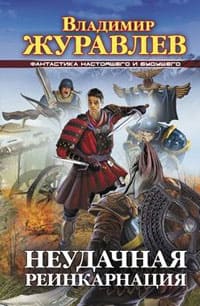 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Корнев Павел
Корнев Павел Курылев Олег
Курылев Олег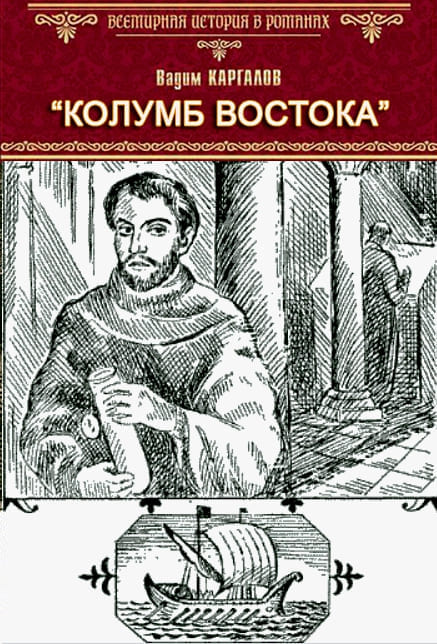 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим