стежки, по которым ходил он в школу (те стежки так удивительно белели даже в
самой плотной темноте, что их, наверное, видно было даже из космоса),
затопленные дороги, на которых он впервые в жизни увидел черный гремучий
мотоцикл, а на нем - Йосипова Грицька; шелестели вырубленные осокори Пуда,
возле которых он мальчиком пас коров, плыли белые высокие облака над степью,
когда он, бывало, носил отцу в поле обед, поглядывая то на небо, то в книжку
(он всегда читал на ходу); еще и через сорок лет он мог бы сказать, какой
ветер веял в весенних буераках, когда учительница естествознания повела их
на экскурсию и Грицько Александров в берестках поцеловал Офанову Тоньку;
жили в его памяти даже все те животные, которых уже давно не было на свете и
которых, казалось бы, никто и никогда не должен бы вспоминать: Михайлов
вороной жеребец, гонявшийся за детьми, Бувтринова безрогая корова, черный
бешеный пес, которого мужики гнали мимо церкви, и пес шел покорно, понуро,
только поводил залитыми кровью глазами на мужиков, сурово обступавших его с
вилами в руках, и псиная смерть холодно поблескивала на остриях.
листья шуршали на давно срубленных осокорях; тепло льнула к ногам вода в
Бродке, где они ловили раков; трещал молодой лед на Поповом пруду, где
когда-то провалился Карналев отец Андрий Корниевич, горела и посейчас
Миронова хата, зажженная ночью молнией, пылала среди дождевых потоков с
такою багряной неистовостью, что казалось, на том месте и земля прогорит до
глубочайших ее недр; хрипло дышали в залитых росой травах коростели, аисты
мостили гнездо на несуществующей Максимовой хате, галки шумливо обседали
высокие деревья вокруг церкви, сожженной еще фашистами, но уцелевшей в
воображении Карналя.
точно направленной жизненной деятельностью возникало для Карналя всякий раз,
когда он приезжал в гости к отцу. В самом деле, половину своей жизни мечтать
о гармоничном, упорядоченном, прекрасно распланированном мире благосостояния
и красоты, стремиться, чтобы все села стали такими, как его новые Озера, и
забывать обо всем этом, чуть только очутишься перед тем пространством, где
прошло твое детство, заглядывать в глаза односельчанам, допытываться: "А
помните то? А вспомните это". Сверстники Карналя, старшие и младшие озеряне,
несколько удивленно воспринимали упорное возвращение ученого-переученого
сына деда Андрия к давно забытому, восклицали, не сговариваясь, всегда одно
и то же:
как мы зажили! Нам бы еще хоть шесть - восемь годков так пожить, и потом и
умирать не жаль! Живем - и сами не верим!
Усаживались за столы в увитой виноградом (виноград в Озерах!) беседке,
поднимали чарки. Мужики помоложе крепко крякали, по-ястребиному тянулись к
закускам, их крепкие шеи наливались краской, а у стариков растроганно
увлажнялись глаза, безрукий дед Гармаш все хотел обнять деда Андрия своей
единственной рукой, которую сумел принести с фронта, выкрикивал:
смертью своей, а кто насильственной, кто убит, кто утонул, замерз в степи,
сгорел, угорел. И память Карналя снова странствовала по прошлому, выхватывая
оттуда то одного, то другого - то Васю Бандея, что в сорок первом побоялся
добровольно идти вместе с Петьком на фронт, а в сорок третьем был
мобилизован и погиб на той стороне Днепра, еще и не успев получить
обмундирование и винтовку; то Ванька Киптилого, который единственный из них,
десятиклассников, писал стихи, а на фронте стал пулеметчиком и в одном из
боев сдерживал целую роту фашистских автоматчиков, пока не изрешетили его
пулями; то Илюшу Приходько, который не очень любил учиться и сидел по два
года чуть ли не в каждом классе, а на войне стал капитаном и приехал в сорок
пятом весь в орденах и медалях.
так сказать, математик в их селе, поскольку никто в этих краях до него (да,
пожалуй, и после него) не умел так непринужденно обращаться со сложнейшими
механизмами и с непостижимостью чисел. Сложнейшим механизмом в ту пору в
Озерах были, ясное дело, стенные часы с двумя гирьками, которые все куда-то
спешили, широко ступая неутомимым маятником, но так никуда и не доходили,
оставались на стене, а если и доходили куда-то, то до своей остановки.
Что-то в них заедало, что-то исчерпывалось, замирали латунные шестеренки и
колесики, бессильно повисал маятник, бессмысленной неуместностью поражали
медные цепочки с медными же гирьками. Хозяйка причитала, что доломалась
столь ценная вещь, горевала, хлопала руками по юбке, эти хлопки становились
слышными чуть ли не на все село, эхо долетало и до церковной сторожки, где
отсыпался после ночного дежурства Микола Цуркин. Он продирал глаза,
огородами и левадами, напрямки, словно боялся конкуренции, спешил в ту хату,
где так неожиданно и беспричинно отказала техника, перед порогом долго
сморкался и вытирал сапоги и нос, входил, здоровался, садился на лавку у
стола так, чтобы часы были за плечами, показывал на них согнутым, желтым от
табака пальцем, подмигивал хозяйке:
плакалась хозяйка, намасливая перышком, обмакнутым в топленое масло, и
переворачивая на сковороде вкусный приплюснутый пирожок с творогом, похожий
не то на крупного карася, не то на бубнового туза, не то на ту непонятную
геометрическую фигуру, которую Цуркин видел на церковных окнах из цветного
стекла. Да и что там какая-то фигура? Пирожок есть пирожок - вот и все, а
если к нему еще густой сметаны, да четвертинку самогона, да...
сметану, еще раз убеждаясь, что ни в чарке, ни в бутылке не осталось никаких
одопков, говорил Цуркин. - Механизм я заберу, а пока буду ремонтировать, ты,
Векла, четвертинку мне каждый день, да десяток яиц, да сала, да паляницу...
молча кивает головой, наблюдая за тем, как Микола умело развинчивает что-то
в часах, снимает циферблат, сверкает медным и стальным, заботливо
завертывает все это сложное хозяйство в грязный платок, который вынимает из
собственного кармана, а не просит у хозяйки, как это сделал бы какой-нибудь
голодранец, - сказано: человек возле церкви, батюшку каждый день видит,
благословения принимает, весь в премудрости.
Тогда Цуркин приходил к Векле с небольшим узелком в руках, клал узелок на
стол, развязывал, высыпал на стол колесики и шестеренки, разводил руками:
женщина.
испорченные "ходики", все кормили и поили Цуркина, поскольку каждый втайне
надеялся на чудо: вот ведь ни у кого не свинчивалось, а у меня свинтится,
тогда всем покажу!
отбивал церковным колоколом часы, начиная с шести (когда была зима) или с
девяти (летом), - известно ведь, что в селе часы неодинаковы зимой и летом,
а также днем и ночью. Собственно, днем там никто часов и не считал, потому
что они сплошь сливались в единый отрезок времени от восхода до захода
солнца, счет начинался с ночи, а там тоже: летние часы - коротки, их страшно
мало, а зимние - длинны, и их так много, что некуда и девать. В ночных часах
Цуркин часто путался, особенно же докучали ему одиннадцатый и двенадцатый,
надоедало бить в колокол, выдерживать промежутки между ударами, чтобы люди,
случаем, не подумали, что ты бьешь в набат, а заодно еще и считать. До
десяти Цуркин еще кое-как досчитывал, а дальше нападала на него такая лень,
что он либо вместо одиннадцати бил двенадцать, либо вместо двенадцати целых
тринадцать. Когда же парубки, возвращаясь с вечерниц, смеялись над Миколой и
кричали ему из-за ограды, что он хватил лишку, Цуркин, которого никто не
воспитывал в духе критики и самокритики, огрызался:
сделать вывод, что Цуркину была доступна ньютоновская идея симметричности
времени, согласно которой время может протекать в обоих направлениях.
Озерянские же парубки стояли на позициях французского философа-идеалиста
Анри Бергсона, считавшего, что время несимметрично и никогда не сможет
двигаться в обратном направлении, поэтому никак не могли воспринять
цуркинской идеи "отбивания назад" часов и называли его придурком.
и негативных чисел, побуждаемый к тому попытками Миколы Цуркина придать
времени обратное направление? Как бы там ни было, но в Озерах всегда
тяготели к непостижимому, к размышлениям, к разгадываниям тайн природы, и
если и не все могли сравняться с Миколой Цуркиным в его дерзких заигрываниях
с вечностью, ибо время - это всегда вечность, то никто и не хотел
оказываться в роли того человека, что у бога теленка съел, и мог всю жизнь
биться над вопросом: почему Днепр течет от Кременчуга, а не наоборот, почему
трава зеленая, почему на вербе не растут груши, и конечно же каждый хотел
пересчитать на небе звезды, не страшась тщетности своих усилий и не
догадываясь, что даже Норберт Винер когда-то поместит в первой главе своей
"Кибернетики" детский стишок о том, что только бог может пересчитать все
звезды до единой и облачка в небе, человеку же, вместо того чтобы охватить
своим умом беспорядок, лучше поискать какой-то порядок в том беспорядке.
Собственно, так и начинается наука управления.
считавший, что на свете все подчинено точному расчету, все имеет свое место,


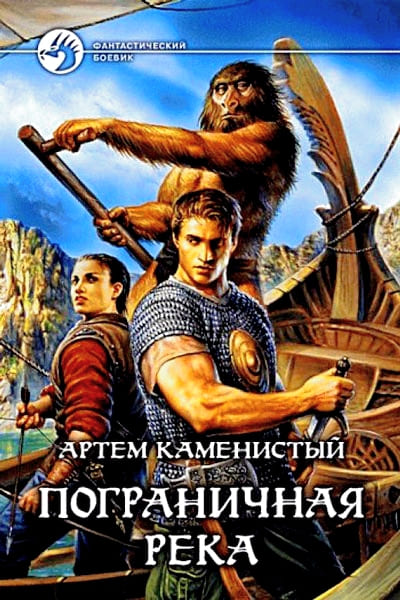



 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий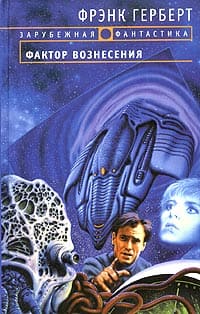 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк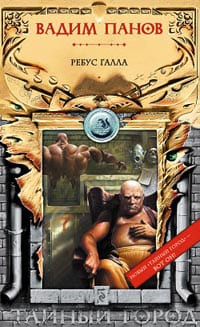 Панов Вадим
Панов Вадим Земляной Андрей
Земляной Андрей Куликов Роман
Куликов Роман Лондон Джек
Лондон Джек