беспорядок же относится к явлениям преступным, в чем можно довольно легко
убедиться по поведению Панькова соседа Ивана Трофимовича.
двенадцатого калибра. Зимой Иван Трофимович полеживал на печи, греясь в
тепле и принюхиваясь к вкусному аромату пирожков, которые его Палажка
вынимала на жестяном противне из печи. Иногда он от нечего делать
посматривал в маленькое оконце, из которого был виден весь его сад, а за
садом - стена Панькова сарая. Снег, мороз, все мертво. Грустновато чернеют
яблони и груши. Даже не верится, что повиснут на тех искривленных, как руки
у ведьмы, ветках краснобокие яблоки и желтые, величиной с глечик для молока,
груши. И вдруг зоркий глаз Ивана Трофимовича замечает что-то серое,
прыгучее, лохматое.
"Б-ба-бах!"
хаты к так называемому зайцу, из-за сарая уже бежит Панько и грозит на
открытое запечное оконце темным кулачищем.
чтобы я принес домой.
обращается к оконцу Панько.
заяц.
пятьдесят я вкатил. Заяц! Отдай малому, а то как пальну!
теории систем, о невозможности предвидеть поведение и состояние той или иной
системы в будущем, о том, что любая изолированная система может коренным
образом изменяться, когда ее изолированность будет нарушена. А что такое
кролик, пока он бегал у Панька во дворе и даже в саду Ивана Трофимовича? Это
действительно своеобразная биологическая система, изолированная от Ивана
Трофимовича, называемая Паньком по каким-то одному ему ведомым соображениям
словом "кроль". Когда же этой системе вогнали в ее серый пушистый бок
пригоршню свинцовой дроби, она уже не является тем, чем была до сих пор, и
уже Иван Трофимович имеет право, исходя из своих действий, назвать ее так,
как ему кажется целесообразным и оправданным, то есть словом "заяц". Таким
образом, он лишь на неуловимый промежуток времени создает беспорядок в
порядке, который господствовал в воображении Панька, и искусственно, с
помощью ружья и меткого глаза, создает новый порядок, из которого,
собственно, и начинается наука, впоследствии, когда уже ни Панька, ни Ивана
Трофимовича не будет на свете, - названная наукой управления.
смешными дядьками, в поведении коих со временем можно будет шутя отыскать
корни кибернетики, генетики и всех самых неожиданных наук и теорий!
голосования за депутатов в Верховный Совет. У нас при участке был устроен
так называемый бухвет, где была и бочка пива. Кто пришел рано, тот напился.
Я один пошел рано и выпил бокалов 3. Потом пошла ко мне хорошая братия, у
меня уже до вечера посидели за столом, это отметили день свободный.
отелилась коровка, привела телку хорошую, это уже подряд 4 телки. Отелилась
утром, а ночью был крепкий мороз и была пурга. Я насилу внес теленка в хату,
очень было тяжело. Теперь в хате сразу стали привязывать, не то такое
шкодливое, уже и на лежанку скакало, а теперь с Одаркой Харитоновной, твоей
мачехой, в хате. Она к нему гомонит, оно слушает, хлеб научила есть. Опишу
тебе, что в воскресенье 18/II помер наш любимый дядя Логвин, а твой дедушка.
Это был у нас последний родной дядя Логвин, которого мы в этом году часто
проведывали и выпивали с ним, а он нам песни пел и свою вот эту, Шевченкову
"Ой, крикнули cipi гуси" - чаще всего. Теперь нет дяди Логвина. Он у нас по
старости немного приболел, и сидел, и лежал, а тогда написали телеграмму
Грицьку в Днепропетровск, Грицько приехал, дядя Логвин сел с Грицьком
вечером, и пол-литра выпили, чаю попили и легли спать. А наутро встали, а
дядя Логвин уже готовый, умер тихо и спокойно. Вот так мой тато, а твой
дедусь Корпии, да его батько, а уже мой дедусь Федир, легко умирали, кабы и
мне так умереть, я бы ничего другого и не хотел. В воскресенье 18-го в два
часа дня похоронили в саду возле хаты, а вечером сделали поминки. Сошлось
немного старых бабусь, а то все мы, братья: Илько, я, Грицько, Федир
Левкович, и как начали с вечера пить горилку и петь песню дядька Логвина,
которую он любил: "Ой, крикнули cipi гуси", то и поминали до двух часов
ночи, и вышло все по порядку.
будет весна. У нас в хозяйстве курочки несутся, корова доится, телушка
попрыгивает в хате, свинью кормим лучше, чем сами едим, не знаю только, что
будет из нее. Дамка скоро опоросится, пчелок уже одна семейка погибла, не
хватило харчей, и другие, кто знает, выдержат ли, пока что кормим, да не
знаю, что будет дальше, уже у многих повымерзли. Теперь прошу тебя, Петрик,
передавай привет от меня Айгюль и прошу: напиши мне письмо, а то я все жду.
матери. У Карналя не было никого на свете, кроме отца, но проявлять свои
чувства он стеснялся. Отец тоже принадлежал к людям сдержанным, так что со
стороны могло показаться, что они относятся друг к другу как-то словно бы
небрежно, что ли. Когда Карналь пытался вспомнить проявления отцовой
нежности к нему, то ничего не приходило на память, разве что покупка
велосипеда и плакаты. Велосипед отец купил Петрику, еще когда тот учился в
пятом классе. Ездил для этого в Днепропетровск, долго искал, стоял весь день
в очереди, привез хромированное чудо Харьковского велозавода, всем хвалился,
что заплатил целых семьсот пятьдесят рублей, рад был тому, что в селе еще ни
у кого не было именно такого велосипеда, вспоминал о том велосипеде и после
войны, но тогда уже сын посмеивался над отцом: "Были деньги, вот и купил,
тоже мне нашел чем хвастаться". Зато плакаты - это и впрямь было что-то
особенное, сугубо карналевское. Отец любил, чтобы у него на все
революционные праздники "гуляли" дома. Жили они тогда в большой кулацкой
хате, проданной отцу сельсоветом, места хватало, вот и собирал отец своих
друзей, приходило человек тридцать. Ели, пели песни, а чтоб не забывали,
ради чего собрались, отец накануне говорил Петьку: "Будем гулять на Восьмое
марта, нарисуй, Петрик, плакат". И Карналь брал бумажные обои, разрезал их
на узкие полоски, склеивал, выписывал большими буквами: "Да здравствует
Восьмое марта - Международный женский день!" Так же и к Первому мая, и к
Октябрьским, и на Новый год. Лозунг висел у гостей перед глазами, каждый мог
прочесть написанное Петьком, каждый, кто хотел провозгласить тост,
провозглашал его, не задумываясь тяжко, просто по тексту Петька. Малому было
чем гордиться, и в те минуты сердце его преисполнялось такой любовью, такой
нежностью к отцу, что он готов был при всех кинуться ему на шею, целовать
колючие щеки, плакать от избытка чувств. Но он сдерживался, ибо разве же не
относились все Карнали к самым сдержанным в Озерах!
высочайшим проявлением нежности между ними было... бритье отца. Отец
умышленно не брился целую неделю перед приездом сына, знал, что тот привезет
какую-то особенную бритву, и тот действительно привозил, и в первый же день
происходил торжественный ритуал отцова бритья, а потом одеколонивания,
поскольку невестка всякий раз привозила для старого Карналя какой-то
особенный одеколон. Отец взбадривался, молодо блестел глазами, потирал руки:
"Лет сорок сбросил, спасибо вам, детки!"
молодицам ходит". Петько не знал, что такое "ходить по молодицам". Однажды
был случай в степи возле Топила. Пообедав, селяне имели привычку подремать в
холодке, а холодок был только под возами. Взрослые пристраивались под
возами, детвора гнала поить коней к Топилу, забавлялась возле воды в
глубоченных глиняных ярах, которые начинались возле Топила и извилисто
тянулись аж до Стрижаковой горы. Петько почему-то не побежал в тот день с
хлопцами, оказался среди взрослых, его не замечали, а потом кто-то увидел,
испуганно закрыл от него близко стоящий воз. "Не гляди, Петрик! Отвернись!"
Если бы не было такого неожиданного предостережения, он, может, и не обратил
бы никакого внимания на тот воз, но когда у тебя перед глазами потная
дядькова спина, заслонившая полсвета, непременно хочется выглянуть из-за той
спины и хотя бы краешком глаза взглянуть на запрещенное. Петько выглянул
из-за этой спины, шмыгнул взглядом в тень под возом, образованную
свесившейся чуть не до самой земли попоной, увидел под телегой Мотрону
Федотовну, жену сельсоветовского секретаря, и отца своего Андрия Карналя.


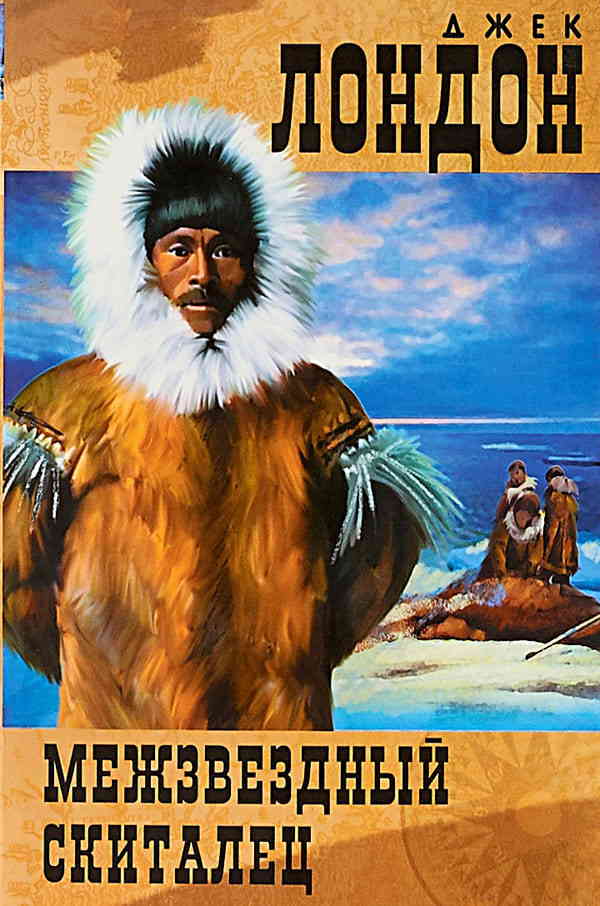


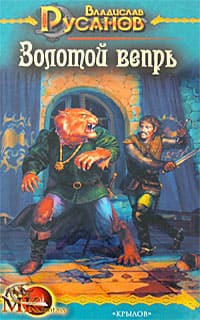
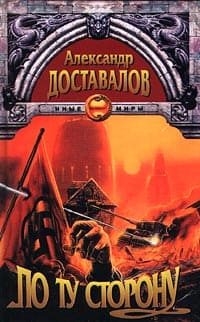 Доставалов Александр
Доставалов Александр Андреев Николай
Андреев Николай Акунин Борис
Акунин Борис Никитин Юрий
Никитин Юрий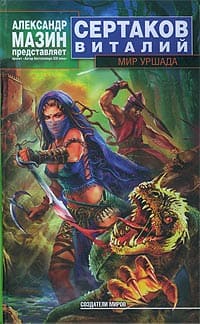 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия