Блеснуло белое женское тело, и Петько, сам не зная отчего, заплакал и,
плача, побежал к Топилу - бежал куда глаза глядят, в бессильных слезах перед
непостижимостью взрослого мира.
возле Днепра на дальнем конце села напротив правобережной Дереивки. Ехать
туда долго, выбирались с рассветом, скрипели арбы, гейкали на волов
погонщики, хорошо дремалось под тот скрип и гейканье, и впоследствии Петрик
никогда не мог вспомнить, как они добирались до места. Будто переносили тебя
спящего. Но и не только тебя - а и твоего отца, и Васька гнатового, и дядька
Гната, и всех Андриев, и Раденьких, и Коваленков, и Нескоромных, и
Нагнийных, арбы, волов, коней, косы, точильные бруски, бабки для отбивки
кос, грабли, вилы, тыквы с теплой мягкой водой, закопченные таганы на
треногах. Зато помнит, как возвращались назад на арбе с сеном, такой
высокой, что зацеплялась за ветки всех деревьев по дороге, а дорога была
далекая и вся в вербах, берестах, грушах. Ветки задевали за сено, обдирали
арбу, твердые сучки выдергивали целые охапки сена, и оно висело на деревьях,
как бороды волшебников или косы ведьм.
они дикой силой, не боялись ни бога, ни черта, каждый старался обходить их
стороной, девчата боялись выходить замуж за немых, они исчезали, но оставляя
потомства, сходили со света молодыми: тот утонул, тот сгорел, того понесли
кони и убили, того зарезали парубки возле церкви за какую-то девку. Дикая
сила скапливалась в этих людях. Наверное, со словами из человека выходит
избыток силы, когда же такого выхода нет, сила скапливается в нем и толкает
если и не на преступление, то на поступки безрассудные, часто бессмысленные,
а то и необратимые.
учил, упало на него умение, как с неба, он рисовал словно бы для
собственного удовольствия, умел изобразить и лошадь, и корову, и хату,
схватить черты лица. Тем летом в Дубине, пока косили траву, ворошили сено,
сгребали, клали в копны, немой, развлекаясь, зарисовывал косцов в простую
школьную тетрадку обыкновеннейшим угольком, взятым из костра. Нарисовал он и
Андрия Карналя, показывал дядькам и теткам. Дядьки хохотали заливисто и
громко, тетки прыскали в кулак и отворачивались, краснея. Немой показал и
Петьку листочек из тетрадки в клеточку. Мальчик увидел очерченного углем
человека, весьма похожего лицом, особенно же носом и бровями, на его отца
Андрия Карналя, но человек тот, в отличие от Петькова отца, был почему-то
голый, и пририсовано ему было огромное срамное тело. Немой держал листок
бумаги перед Петьковыми глазами и беззвучно смеялся. Мальчик рванулся
выхватить у него позорный рисунок, но тот поднял руку вверх. Тогда Петько,
стиснув свои маленькие кулачки, ударил ими немого в живот, бросился на него
всем своим тоненьким и легоньким тельцем, бился об него отчаянно и
бессильно, плакал, исступленно повторял: "Я тебе! Я тебе!" Прибежал Андрий
Карналь с косой, испуганный и в то же время разъяренный, выхватил у немого
рисунок, разорвал, замахнулся на незадачливого художника косой, потом обнял
сына, принялся утешать; "Не плачь, Петрик, не надо, сыночек!"
как хата, арбе с сеном, которая медленно катилась мягкой дорогой из Дубины,
катилась долго-долго, то словно проваливаясь в теплую потусторонность, где
не жил ни единый звук, то возносясь в усеянное звездами небо, где жили
таинственные голоса ночи: попискивали птенчики, шелестели крылья, что-то
вздыхало, жаловалось. На Днепре шлепал плицами колес пассажирский пароход,
когда же шел буксир и тянул вереницу барж, то в нем что-то стучало и
сотрясалось, отражаясь эхом в глубинах реки и в окрестностях; в неизмеримой
дали пели девчата; сонно вскрикивала неведомая птица, лениво лаяли собаки;
тогда еще не было бессонных тракторов и ночных самолетов, а вместо спутников
беззвучно шугали с неба на темную землю звезды, а им навстречу простиралось
что-то большое и неведомое; ароматы сена сливались с пронзительными запахами
ночи; скрипели возы, погейкивали погонщики. Кротость мягко накрывала
маленького Петька шелковым покрывалом сна. Он согревался возле женских ног,
потом вдруг испуганно вздрагивал. В его душе что-то постанывало, он снова
вспоминал несправедливо, как он считал, обиженного отца, и вот там, на
высокой арбе, среди запахов и каких-то словно бы живых шорохов свежего сена,
клялся себе всегда защищать его, единственного родного человека, навеки
родного, самого дорогого на свете!
Гнатовым, услышал, как тетка Радчиха кричит: "Петя, твой батько провалился
на Поповом пруду!" - не стал переспрашивать, побежал через все село, мимо
Клинца, Квашей, пономаря, мимо церкви, проскочил чей-то огород, цепляясь за
неубранные будылья подсолнуха, очутился на бугре над Поповым прудом,
растерянно заметался глазами меж берегов, по свежему чистому ледку, искал
прорубь, полынью, вывернутые, поставленные торчком льдины с белыми, как
мертвые кости, закраинами. Должна бы уже быть здесь целая толпа людей, но
никого нет. Молодой лед нетронутостью своей холодно бил Петька в глаза. Лишь
у самого берега можно было заметить, да и то после упорного и внимательного
обследования всего пруда, какое-то нарушение целостности ледяного панциря.
Мальчик метнулся туда: в самом деле, лед был проколот, проломлен, видно
даже, что кто-то тут барахтался, но ведь и мелко, и илисто, дно сразу подо
льдом, вода почти вся вымерзла, тут не утонет и мышь, не то что человек, да
еще такой высокий и сильный, как Андрий Карналь. Неужели тетка Радчиха могла
так жестоко пошутить? А может, ей кто-то сказал, а она сказала ему, Петьку?
Разве такое по бывает?
побрел через попов сад, мимо школы и усадьбы Андрия Приминного, самого
хитрого человека в Озерах. Андрий что-то тесал у сарая. Вытянув шею,
выглянул из-за тына, увидел малого Карналя, позвал ласково и сочувственно:
напрямки к Арсентию пробраться, в ТОЗ* хотел затянуть Арсентия. А
нетерпение, вишь, к чему приводит...
кабанчика. Даже кольцо вставить - и то было жалко. Поэтому всегда звали
Андрия Приминного. Он приходил с длиннющим узким ножом, спокойно входил в
свинарник, ласково поцокивал языком кабану, а когда тот доверчиво подходил,
Приминной чесал ему за ухом, потом брюхо, от таких почесываний кабан
довольно похрюкивал, укладывался на бок, задирал чуть ли не по-собачьи ноги,
и вот тут-то Андрий незаметно доставал нож и бил кабана под левую ногу, в
самое сердце. Короткое, удивленное, горькое "кувик!" - и конец. Приминному
зажаривали большую черную сковороду крови с салом, ставили бутылку, он
выпивал, съедал вместе с хозяином сковороду свеженины, брал за труды добрый
кусок сала и мяса-вырезки - тем и жил.
романтично - "Красный борец", Приминной открыто не выступал против, но ходил
к дядькам, колол, как и прежде, свиней, ел жареную кровь, запивал горилкой,
почмокивал масляными губами, почти льстиво, сладко приговаривал:
все делает красным. Берут, применно, коней, коров, плуги, ступы, грабли и
вилы, рядна и макитры, и мой нож обобществят, и все шила и молотки, что у
кого найдут, а всех, применно, заставят ходить в красных штанах и в красных
юбках, парень то или дядько, девка или бабка Марьяна, та, которой уже сто
двадцать лет!
обобществить, и записался в колхоз, остерегаясь, как бы его не раскулачили,
но других отговаривал, и все о том знали, знал и Карналь, знал даже малый
Петько. Делал все это Приминной так умело и скрытно, что никогда не
попадался. Посмотришь - первый друг Карналя, а в душе - злейший враг. Дети,
наверное, больше других чувствуют, кто враждебно относится к их родителям.
Вот и теперь Петько подумал: может, Приминной сам и посоветовал отцу идти
прямиком через пруд, соврал, что лед уже крепкий. Если бы Карналь утонул, он
бы от радости только перекрестился.
что вела к приземистой, заброшенной в редкий садик хатке его крестной
матери, а отцовой, следовательно, кумы, Одарки Харитоновны. Только скрывшись
от скользких глаз Приминного, дал себе волю, пустился со всех ног,
запыхавшись, ударился о дверь хаты, нажал на щеколду. Он очутился в темных
сенях, где пахло кислой капустой и мышами, легко нашел по памяти дверь в
комнату, не стуча (не до приличий, когда чуть не утонул родной отец!), вошел
в хату. В печи горел огонь, полыхало, шипело, видно, варилось что-то, а
может, и жарилось, но кто варил и для кого, не скажешь, потому что никого
Петько не увидел ни возле стола, ни на лавке, застланной цветастым рядном,
ни на лежанке. Он шмыгнул носом, не то намереваясь заплакать, не то просто
от растерянности, и только этим шмыганьем родил в хате что-то живое. Где-то
что-то зашевелилось, зашуршало, потом вымелькнуло из-за печной стенки,
из-под самого потолка, было странно двуголовое, как из сказки или из
кошмарного сна, уставилось на Петька сразу четырьмя глазами гневно и
возмущенно, а потом и двуголовость раздвоилась. Теперь угрожающее
недовольство сменилось встревоженностью и растерянностью. Петько узнал
стриженую голову отца и голову Одарки Харитоновны с ее роскошными
золотистыми волосами, за которые Петьковы тетки называли ее рыжей. Он даже
не удивился тому обстоятельству, что отец и Одарка Харитоновна почему-то
очутились вдвоем на печи, обрадованно крикнул: "Тату!" - и уже намеревался
прыгнуть на лежанку, чтобы хоть дотронуться до отцовой щеки, убедиться, что
отец цел и невредим. Но Андрий Карналь совсем не обрадовался появлению сына,
он как бы толкнул Петька в грудь суровым: "Ты чего?"
изо всех сил сдерживался, чтобы не взорваться плачем, - ты же... утонул...
Тетка Радчиха сказала...




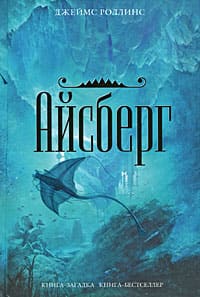

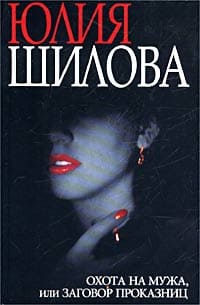 Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис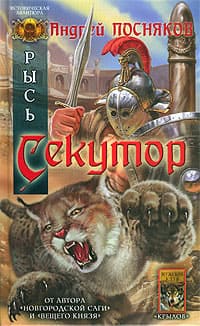 Посняков Андрей
Посняков Андрей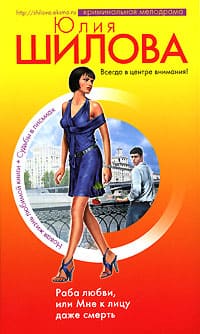 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор Корнев Павел
Корнев Павел